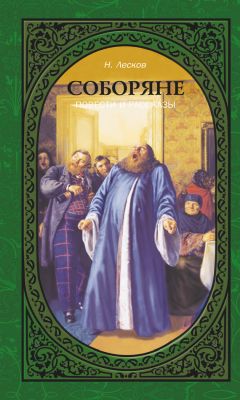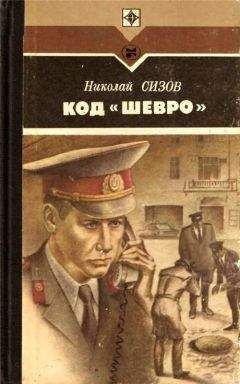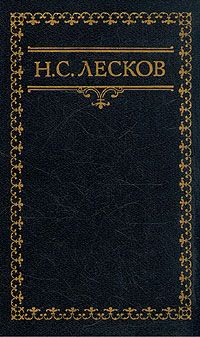Николай Лесков - Повести и рассказы
Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания Керасивны, но она настояла на своем, под угрозою, что иначе не будет рассказывать.
Вот ее исповедь.
21«Поп Савва, – говорит, – совсем и не поп и не Савва, а человек не хрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись, и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы хрестить это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча, и дочку нашего покойного пана отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на весь народ и на самого пана отца – и его самого не захотел крестить просить: „Обойдусь, – говорит, – без всего, без их звания“. Кликнул племянника Агапку, что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня кумою позвал: „Поезжай, – говорит, – Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же окрестите мою дытину“. И он мне шубу подарил, только Бог с нею, я ее после того случая и не надевала: вон она как и теперь через все тридцать лет цела висит. И наказал мне Дукач одно, что „смотри, – говорит, – як Агап человек глупый, он ничего сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь, щобы он, чего Боже борони, по якой ни есть злобе не дал хлопцу якого имени не христианского, трудного, або московьского. На двори у нас Варварин день, а то очень опасно, бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все на московьскую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, – а он пойдет так-сяк перед Богом наговорит и все на московьскую руку сделает, и своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони Бог нам и детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святый Савка. Этот из казаков и до нас дуже добрый. Якый он там ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдаст".
Я говорю:
„Се так: да маломочен вин, святый Савка!“
А Дукач говорит:
„Ничего, что маломочен, зато вин дуже штуковатый: где его сила не возьмет, так на хитрость подымется и как-нибудь да отстоит казака. А мы ему в силе сами помочь дадим: станем свечи ставить и молебен споем: Бог побачит, що и святого Савку люди добре почитают, и Сам на его увагу поверне, а вин тогда и подсилится“.
Я все, что Дукач просил, ему обещала. И завернула малого в шубу, крест его себе на шею надела, а в ноги барилочку с сливянкой поставили и поехали. Но только мы с версту отъехали, как поднялась метель, просто ехать нельзя: зги никакой не видно.
Я говорю Агапу:
«Нельзя нам ехать, воротимся!»
А он дяди боялся и ни за что не хотел воротиться.
«Бог даст, – говорит, – доедем. А мне чи замерзнуть, чи меня дядько убье – то все едыно».
И все коней погоняет, и как уперся, так на своем и стоит.
А тем временем стало темнеть и сделалось не видно и следа. Едем мы, едем и не знаем, куда едем. Кони туда-сюда вертят, крутятся, – и никуда не приедем. Перезябли мы страшно и, чтобы не застыть, взяли и сами потянули из той барилочки, что перегудинскому попу везли. А я на дитя посмотрела: думала – борони Бог, не задохло бы. Нет, тепленькое лежит и дышит так, что даже парок от него валит. Я ему дырочку над личиком прокопала – пусть дышит, и опять поехали, и опять ездили, ездили, видим, что мы опять все крутимся, и нет нам во тьме никакого просвета, а кони куда знают, туда и воротят. Теперь уже и домой вернуться, как раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя, – нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: где Парипсы, а где Перегуды. Я послала Агапа, чтобы встал да коней на поводу вел, а он говорит: „Якая ты умная! Мне холодно". Обещаю ему, как домой вернемся, злот ему дать, а он говорит:
„На що мени ваш и злот, як мы оба тут издохнем. А если хотите мне что сделать от доброй души, так дайте мне еще хорошенько потянуть из барила“.
Я говорю: „Пей сколько хочешь", он и попил. Попил и пошел вперед, чтобы брать коней за узду, да заместо того сейчас же сразу назад: вернулся и весь трясется.
„Что ты, – говорю, – что с тобою такое?"
А он отвечает:
„Да ишь вы, – говорит, – якая умная: разве я могу против Николы перти?"
„Что ты, глупый человек, говоришь: чего тебе против Николы перти?"
„А кто его знает, – говорит, – чего он там стоит?"
„Где, кто стоит?"
„А вон там, – говорит, – у самого запряга – впереди коней".
„Да цур тобе, дурню, – говорю, – ты пьян!“
„Эге, хорошо, – отвечает, – что пьян, а вот же твой муж был и не пьян, да мару видел, и я вижу“.
„Ну вот, – говорю, – ты еще моего мужа вспомнил: что он видел – это я лучше тебя знаю, что он видел, а ты говори: что тебе показывается!"
„А стоит щось таке совсем дуже велике в московьской золотой шапци, аж с нее искры сыплятся“.
„Это, – говорю, – у тебя у самого из пьяных глаз сыпется".
Нет, спорит, что Никола в московьской шапци. Он нас и не пуска.
Я и вздумала, что это, может быть, неправда, а может, и вправду за то, что мы не хотели хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:
„Нехай же по его буде: не пуска, и не надо – мы ему теперь уступим, а завтра по-своему сделаем. Пусти коней идти, куда хотят, – они нас домой привезут; а ты теперь зато хоть всю барилочку выпей".
Смутила я Агапа.
„Ты, – говорю, – выпей побольше и только знай помалчивай; а я такое брехать стану, что никому в ум не вступит, что мы брешем. Скажем, что детину охрестили и назвали его, как Дукач хотел, добрым казачьим именем – Савкою, – вот и крестик пока ему на шейку наденем; в недилю (воскресенье) скажем: пан отец велел дытину привезти, чтобы его причастить, и как повезем, тогда зараз и окрестим, и причастим, – и все будет тогда, как следует по-христианскому".
И открыла опять дытиночка, – оно такое живеньке, спит, а само тепленьке, даже снежок у него на лобике тает; я ему этой талой водицей на личике крест обвела и проговорила: во имя Отца, Сына, и крестик надела, и пустились на Божию волю, куда кони вывезут.
Кони все шли да шли – то идут, то остановятся, то опять пойдут, а погода все хуже да хуже, стыдь все лютее. Агап совсем опьянел, сначала бормотал что-то, а после и голоса не стал подавать – свалился в сани и захрапел. А я все стыла да стыла и так и не пришла в себя, пока меня у Дукача в доме снегом стали оттирать. Тут я очнулась и вспоминала, что хотела сказать, и то самое сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему имя Савва. Мне и поверили, и я покойна была, потому что думала все это поправить, как сказано, в первое же воскресенье. А того и не знала, что Агап был застреленный и скоро умер, а старого Дукача в острог берут; а когда узнала, я хотела во всем повиниться хоть старой Дукачихе, да никак не решалася, потому что в семье тогда большое горе было. Думала, расскажу это все после, да и после тяжело было это открывать, и так все это день ото дня откладывалось. А время шло да шло, а хлопец все рос; и все его Савкой звали, и в науку его отдали, – я все не собралась открыть тайну, и все мучилась, и все собиралась открыть, что он не крещеный, а тут, когда вдруг услыхала, что его даже и в попы ставят, – побежала было в город, сказать, да меня не допустили и его поставили, и говорить стало не к чему. Зато с тех пор я уже и минуты покоя не знаю – мучусь, что через меня все христианство на моем родном месте с некрещеным попом в посмех отдается. Потом, чем старее становилась и видела, что люди его все больше любят, тем хуже мучилась и боялась, что меня земля не примет. И вот только теперь, в мой смертный случай, насилу сказала. Пусть простит мне все христианство, чьи души я некрещеным попом сгубила, а меня хоть живую в землю заройте, и я ту казнь приму с радостью».
Благочинный и перегудинский поп всё это выслушали, всё записали и оба к той записи подписались, прочитали отцу Савве, а потом пошли в церковь, положили везде печати и уехали в губернский город к архиерею и самого отца Савву с собой увезли.
А народ тут и зашумел, пошли переговоры: что это такое над нашим паном отцом, да откудова и с какой стати? И можно ли тому быть, как говорит Керасиха? Статочное ли дело ведьме верить?
И сгромоздили такую комбинацию, что все это от Николы и что теперь надо как можно лучше «подсилить» перед Богом святого Савку и идти самим до архиерея. Отбили церковь, зажгли перед святцами все свечи, сколько было в ящике, и послали вслед за благочинным шесть добрых казаков к архиерею просить, чтобы он отца Савву и думать не смел от них трогать, «а то-де мы без сего пана отца никого слухать не хочем и пойдем до иной веры, хоть если не до катылицкой, то до турецькой, а только без Саввы не останемся».
Вот тут-то архиерею и была загвоздка почище того, что «диакон ударил трепака, а трепак не просит: зачем же благочинный доносит?»
Керасивна умерла, подтвердив в своем порыве покаяния всем то, что мы знаем, и выборные казаки пошли к архиерею и всю ночь всё думали о том, что они сделают, если архиерей их не послушает и возьмет у них попа Савву?