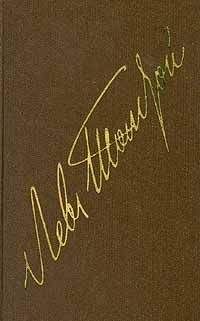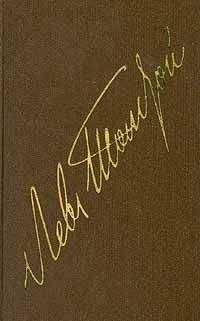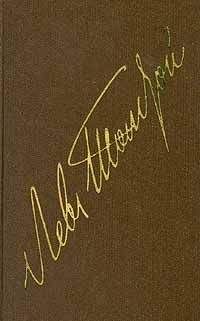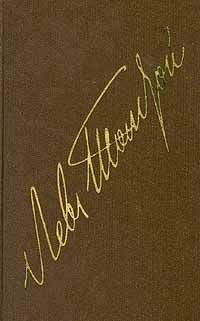Лев Толстой - Том 16. Избранные публицистические статьи
Перепись выводит перед глазами нас, достаточных и так называемых просвещенных людей, всю ту нищету и задавленность, которая таится во всех углах Москвы. 2000 людей из нашего брата, стоящих на высшей ступени лестницы, станут лицом к лицу с тысячами людей, стоящих на низшей ступени общества. Не упустим случая этого общения. Через этих 2000 людей сохраним это общение и употребим его на то, чтобы избавиться самим от бесцельности и безобразия нашей жизни и избавить обделенных от тех бед и несчастий, которые чутким людям из нас не дают спокойно радоваться нашим радостям.
Я. предлагаю вот что: 1) всем нам, руководителям и счетчикам, к делу переписи присоединить дело помощи — работы для добра тех людей, по нашему понятию требующих помощи, которые встретятся нам; 2) всем нам, руководителям и счетчикам, не по назначению комитета Думы, а по назначению своего сердца остаться на своих местах, т. е. в отношениях к жителям, нуждающимся в помощи, и по окончании дела переписи продолжать дело помощи. Если я сумел высказать хоть немного то, что я чувствую, то я уверен, что только невозможность заставит руководителей и счетчиков бросить это дело и что на место отставших от этого дела явятся другие; 3) всем тем жителям Москвы, чувствующим себя способными работать для нуждающихся, присоединиться к участкам и, по указаниям счетчиков и руководителей, начать деятельность теперь же и потом продолжать ее; 4) всем тем, которые по старости, слабости или другим причинам не могут сами работать среди нуждающихся, поручать работу своим близким, молодым, сильным, охочим. (Добро не есть давание денег, оно есть любовное отношение людей. Оно одно нужно.)
Что бы ни вышло из этого, все будет лучше того, что теперь.
Пусть будет самое последнее дело, что мы, счетчики и руководители, раздадим сотню двугривенных тем, которые не ели, — и это будет немало, не столько потому, что не евшие поедят, сколько потому, что счетчики и руководители отнесутся по-человечески к сотне бедных людей. Как счесть, какие последствия произойдут в общенравственном балансе оттого, что вместо чувства досады, злобы, зависти, которые мы возбудим, пересчитывая голодных, мы возбудим сто раз доброе чувство, которое отразится на другом, на третьем и бесконечной волной пойдет разливаться между людьми. И это много! Пусть будет только то, что те из 2000 счетчиков, которые не понимали этого прежде, поймут, что, ходя среди нищеты, нельзя говорить: это очень интересно; что человеку несчастие другого человека должно отзываться не одним интересом; и это будет хорошо. Пусть будет то, что будет подана помощь всем тем несчастным, которых не так много, как я думал прежде, в Москве, которым можно помочь легко почти одними деньгами. Пусть будет то, что те рабочие, зашедшие в Москву и проевшие с себя одежу и не могущие вернуться в деревню, будут отправлены домой, что сироты заброшенные будут призрены, что ослабевшие старики и старухи нищие, живущие на милосердие товарищей нищих, будут избавлены от полуголодной смерти. (А это очень возможно. Таких не очень много.) И это будет уж очень, очень много. Но почему не думать и не надеяться, что будет сделано и еще и еще больше? Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой, что будут спасены ослабевшие пьяницы, непопавшиеся воры, проститутки, для которых возможен возврат? Пусть не исправится все зло, но будет сознание его и борьба с ним не полицейскими мерами, а внутренними — братским общением людей, видящих зло, с людьми, не видящими его потому, что они находятся в нем.
Что бы ни сделано было, все будет много. Но почему же не надеяться, что будет сделано все? Почему не надеяться, что мы сделаем то, что в Москве не будет ни одного раздетого, ни одного голодного, ни одного проданного за деньги человеческого существа, ни одного несчастного, задавленного судьбой человека, который бы не знал, что у него есть братская помощь? Не то удивительно, чтобы этого не было, а то удивительно, что это есть рядом с нашим излишком досуга у богатств и что мы можем жить спокойно, зная, что это есть. Забудемте про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и сердцу, и не может быть, если мы живые люди. Почему не надеяться, что мы поймем, что нет у нас ни одной обязанности, не говоря уже личной, для себя, ни семейной, ни общественной, ни государственной, ни научной, которая бы была важнее этой? Почему же не думать, что мы наконец поймем это? Разве только потому, что делать это было бы слишком большое счастие. Почему не думать, что когда-нибудь люди проснутся и поймут, что все остальное есть соблазн, а это одно — дело жизни. И почему же это «когда-то» не будет теперь и в Москве? Почему не надеяться, что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен; это значит, что клеточки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: она вытесняет мертвые, запирает живой преградой зараженные, сообщает жизнь отживавшим, и тело воскресает и живет полной жизнью.
Отчего же не думать и не надеяться, что клеточки нашего общества оживут и оживят организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клеточки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его.
Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому*, когда 1000 человек раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек помочь им, и у него сердце обольется кровью, и он с отчаянием и злобой на людей убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек еще тысяча человек с желанием помочь, и дело окажется легким и радостным. Пускай механики придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!
Исповедь
(Вступление к ненапечатанному сочинению)
I
Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета*, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.
Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедовали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.
Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М.*, учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году).* Помню, как старшие братья заинтересовались этою новостью, позвали и меня на совет. Мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное.
Помню еще, что, когда старший мой брат Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстностью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал пред ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого принимать не следует. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера* и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.
Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а живут все на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться и в собственной жизни самому никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.
По жизни человека, по делам его как теперь, так и тогда никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими.