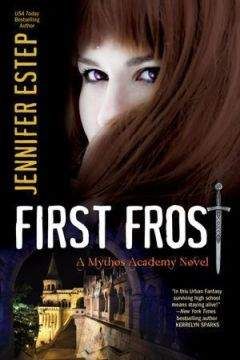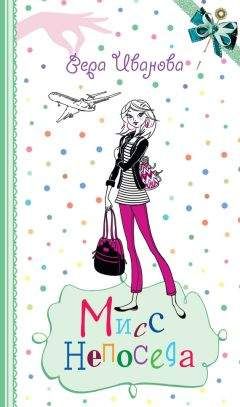Борис Поплавский - Домой с небес
Помнил Олег, как медленно, каждый раз замолкая и задумываясь, видя пред глазами бесчисленные лица, дома и встречи, вынимала она из сумочки визитные карточки, записки, фотографии и короткие, из ресторанов, письма. С каждым из них был у нее связан тяжелый случай, который она продолжала нести в сердце, и, возвышенно-печально улыбаясь припухшими глазами, она рвала их или перечитывала, пытаясь рассказать, замолкая, грустя, напевая что-то, а иногда даже с недоумением останавливаясь, видимо, не узнавая чего-то, не могучи вспомнить чьего-то имени, лица, места.
Так они встречались целый месяц. Декабрь начинался над городом. Поздняя какая-то, даже несправедливо хорошая погода шумела желтыми листьями. Небо было то голубое, то черное, полное тяжелых грозовых облаков, так что в пальто часто бывало жарко, а без пальто — в мгновение налетала буря, и стой тогда в подворотне, рискуя опоздать на свидание.
На улице в переполохе дождя мокрые щеки их встречались радостной, солоноватой свежестью, так что они не раз ошибались направлением в метро, в кондитерской объедались пирожными, не обедали, курили и без конца ходили по магазинам, выбирая и не покупая какую-то женскую чепуху, потому что Катя на Рождество должна была уехать в Копенгаген к родителям, и этот отъезд какой-то особенной мучительной курортной романтикой окружал их жизнь.
Рождество приближалось. Зима была необычайно теплой, иногда бывали тяжелые, прямо-таки весенние грозовые дни — только день или два над Люксембургским садом лежал белый нетающий снег, и Олег, пышучи внутренним жаром полнокровья, наслаждался своей непростужаемостью; без пальто, без шапки, выкатив плечи, путешествовал по городу, красный, как рак, от холода и доброты… Катя вставала поздно, утро Олег проводил в библиотеке, весело-мрачно одолевая своего Гегеля и снобируя соседей, и это вместо того, чтобы зубрить улицы для своего такси… «Успеется за месяц ее отъезда». Но, в сущности, это были все те же Татьянины утра солнечного, какого-то метафизического злорадства легкости, здоровья… Потом ел, брился и, расшвыривая вещи, спешил на свидание, вдруг переменившись, ожив и просияв, со счастливым холодом удачи в сердце. Побрившись и надев новые брюки на грязные загорелые ноги без кальсон, Олег тяжелой походкой идет в гиревой клуб, заранее нервничая до сердцебиения. Идиотское сердце: час таскать гири — не слышно вовсе, а от Катиного письма бьется, как скаженное… Подходя к площади Итали, Олег удивляется, как всегда, чистоте площади и аккуратности зеленых решеток вокруг скверика (нигде не насрано, не Россия). Мимо витрины фотографа (сняться бы в голом виде до пояса и показать Кате). Мимо зеркала шапочной торговли (больше не ношу кепок — и дешевле, и модернее). Вот он у бельевщика (хожу без кальсон — и ничего, привык, больше не натирает). У кинематографа (давно не был, не тянет одному в кинематограф в полдень. Зенит земной тоски, вершина одиночества — одному в кинематографе днем). У булочной (можно пожрать чего-нибудь после тренировки, да не стоит — хлеб белый, мертвый, безвитаминный, как мел, да и, жуя, все думаешь о недостающих зубах). У аптеки (как это покупают презервативы, сгорел бы от стыда, никогда не решусь). У гробовщика (какая ерунда). У музыкального магазина (долгая остановка: вот бы мне радио в десять ламп, век бы крутил-покручивал… Вот бы одному в комнате с Катей танцевать под лондонский джаз… Танцевать голому, совокупляться под джаз, но подо что лучше — под танго или под бостон, не под Вагнера же или под «Героическую» симфонию; а, да, вот под «Послеполуденный отдых Фавна» Дебюсси). Подходя к переулку около самого жимназа «Жан Дамн» (ну, теперь крепись, спокойнее, не кокетничай, не нервничай, не смотри ни на кого…), Олег, сузив плечи, платит три франка и совершенно подростком проходит в зал под ироническим взглядом огромного жирного кассира…
Запах пота, пустота, банный свет с потолка, поломанный деревянный ринг на возвышении, слева — параллельные брусья, деревянные бутылки рядком, справа — рыхлый песок и огромные черные гири, как солдаты у стены, черные бомбы с перемычкой в рост человека, некоторые из коих он не в силах даже пошевелить.
Олег снимает неловко пиджак, но не раздевается до конца и душа не берет, отчасти от смущения, отчасти оттого, что слабеет от воды, отчасти от нелепого страха, что в раздевалке украдут вещи… Двенадцать часов, посетителей, к счастью, — но и к тайному сожалению, — никаких, только один маленький и белый голый человек, мечась как угорелый, делает шадов баксинг, дерется с воображаемым противником, и огромные толстяки, отставные чемпионы, за стеклянной стеной снисходительно жрут…
Что же, надо приниматься за дело… Экскурсия в сторону параллельных брусьев…
Стойка… Вольт направо… Неловкий удар щиколоткой по брусу… Потеря равновесия… Кувырком на карачках вниз… Конфуз, оглядка во все стороны…
Гири… Возьмем для начала двадцать пять, тридцать… Направо… Налево…
Короткая болванка оттаскивается от стены и легко, без заминки (сейчас осрамлюсь… Окончательно потерял веру в себя… Сердце бьется, но пред кем? Актерская душа…).
Bon! сa va…[28] Тридцать пять налево… Разгон, заминка (не осрамись!). От плеча тридцать пять лезут, как на колесиках (ты видишь, сволочь трусливая…). Сразу без перехода пятьдесят пять — три пуда с лишним… Едва Олег взялся за них, огромная величина шаров сжала сердце (эдакую не сдвинешь…). Но, собрав все бешенство нерастраченной эротической муки самолюбия, жалости к себе, Олег рванул гирю, и вот каким-то чудом — мелькнул отчаянный, как молния, изуверский слоновый момент — она у плеча, совершенно ломая, раздавливая кисть. Олег слегка приседает и, о, диво, побеждает собственную неудачливость, старость, болезненность, бедность: гиря дрогнула, подалась и выперла к грязному стеклянному потолку (с ума сошел, не спускай глаз… убьет…), покачнувшись, едва не обрушившись, причиняя невыносимую ломоту плечу, переполняя сердце сумасшедшей гордостью… С размаху об землю… От стука толстая рожа высунулась из-за перегородки, но, поняв профессиональным наметанным оком, что дело идет все-таки о пятидесяти пяти кило, ничего не сказала…
Затем Олег долго крутит, тащит и подкидывает знакомые тридцать кило… Это для него ничто, почти как книга в руке, и он манипулирует ими не глядя, как попало, что с большими гирями — смертная опасность снизу, сверху, со спины, от плеча.
Затем, на удивление толстой роже, двадцать кило в четырехугольной чушке безукоризненно останавливаются, повисают на вытянутой руке, и вот уже Олег, раздувшись как вол, торжествующе влезает в душ, внутренне, однако, зная, упрекая себя за то, что такая тренировка на людях, с бьющимся от самолюбия сердцем, ему один вред. Покуда он еще помахивал двухпудовым чугунным калачиком, таким привычным ему, гимнастическая зала начала постепенно наполняться народом: двое толстых красных людей, несомненно пьяных, пришли выяснить спор с гирями в руках, худой высокий молодой человек — по предписанию врача, коричневый красавец на кольцах. Но Олег уже выжал, вывинтил, вытолкал, вырвал свои сорок минут; из-под теплого мыльного душа, с мылом в ушах, измученный, счастливый, переволнованный, но торжествующий, выкатился, как ошпаренный, на улицу.
VII
В то утро Люцифер показал свои рожки, и они целый день ссорились, гордясь, как варвары, не веря телу и его простому глубокому притяжению. Сатанея и ожесточаясь, они ругались в тесной отельной комнате среди облаков дыма, гордясь и играя разлукой, вдруг повернувшись друг к другу чужою, враждебною стороною, но внутренне, на гибель себе, не веря вовсе, что разлука возможна… О порочное удовольствие ссориться, рвать дорогое прошедшее и с каким-то злым головокружением говорить непоправимые слова. Все хрупкое, дождливое очарование этих дней вдруг показалось нереальным и тщетным. Вспоминал Олег потом, как Тереза ему говорила, что люди, как камни, которые медленно и неловко опутывает золотой паутиной небесное насекомое дружбы, чтобы когда-нибудь тысяченитяная ткань была так крепка, чтобы всех вместе, как сеть, можно было бы поднять, отделить от дна реки исчезновения, но по малейшему поводу камни вдруг начинают судорожно шевелиться и рвать с себя наряд прекрасный, потому что он стесняет их мертвую, дикую свободу небытия. И все-таки едва злая вспышка уймется, золотое насекомое памяти опять продолжает:
— Почему ты не работаешь, если ты меня любишь, почему ты не сдаешь экзамены на такси?
— Да, ты бы поискала сама работу и поучила бы улицы.
— Если очень хотят, всегда находят и выдерживают экзамены.
— Не работаю, потому что и так живу, потому что научился и так жить, выуживать, выжуливать всякие пособия, покупать башмаки на толкучке (не без гордости).
Потому что сумел тридцать лет не работать, привык к свободе.