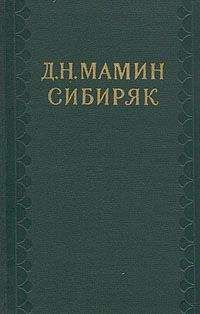Дмитрий Мамин-Сибиряк - Том 1. Рассказы и очерки 1881-1884
Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы хины зубы болят или что-нибудь в этом роде; однажды о. Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай; о. Андроник и Асклипиодот были слегка навеселе, на первом взводе; Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя уронила фразу:
— Фатевна очень умной женщиной оказала себя…
— Что-то не слыхать, — иронизировал о. Андроник.
— А я так своими глазами видела…
— Н-но-о?
— Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?
— Продал, а тебе какое горе?
— Да так, к слову пришлось… Она вам пятьдесят рублей заплатила за лошадку-то?
— Ну, положим, что пятьдесят.
— Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу доктур к нам на двор идет, а больных никого нет… Вышла я на крылечко, увидал меня: «Ты, говорит, все еще жива?» А я ему: «Вашими, мол, молитвами, как шестами, подпираемся; скрипим помаленьку…» — «Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну, а доктур давай у ней вашу лошадку торговать, понравилась, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по Пеньковке гоняет. То-се, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктуру, под брюхо пролезла раз пять, значит, смирная совсем лошадь, а потом вскочила на лошадь верхом да без седла и давай по двору гонять, как цыган. У доктура так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться: доктур сто рубликов и заплатил Фатевне.
— Вре-ешь?!
— Чего мне врать: на свои глаза свидетелей не надо. При мне доктур вынял толстый-претолстый бумажник и отдал Фатевне четыре четвертных бумажки. После пришел доктуров кучер, увел лошадь, а доктурова жена захотела попробовать лошадку… Сели оба доктура в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону, через канаву — и понесла, и понесла. Оглобли изломала, дрожки изломала, а доктура лежат в канаве и кричат караул.
— Ах она, шельма?!. - рычал о. Андроник.
— Да еще что, отец Андроник, — продолжала Галактионовна, — после сама же Фатевна и смеется: «Как, говорит, просты, ах, как просты образованные-то люди… Только, говорит, жалованье они действительно большое получают, а настоящего ума в них нет: необразованной, говорит, бабе выбросили пятьдесят рублей, а мне на голодные-то зубы и ладно. Особенно, говорит, жаль мне попа Андроника, деньги, говорит, он любит, а лошадь не умеет продать!..»
— Ах она, шельма! — кричал о. Андроник, бегая по комнате. — Да ведь это дневной грабеж… Пятьдесят рублей?! Ах, шельма… Ведь пятьдесят-то рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!
— Простота-то, говорят, хуже воровства, отец Андроник! — язвила Галактионовна.
Выходя от нас, о. Андроник во дворе встретился лицом к лицу с Фатевной; эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и ругани, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно:
— А ты, поп, не храпай… Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой.
— А, не храпай… не храпай! — горячился о. Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. — Не храпай… Я бы подвязал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?
— Грешны, да божьи, — бойко огрызалась Фатевна; у ней так и чесался язык отчистить попа на все корки.
Асклипиодот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил подобру-поздорову спрятаться за широкую спину о. Андроника, Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне «ржали девисы», и друзьям ничего не оставалось, как только отступить в положении того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести.
Впрочем, к чести наших героев, нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с о. Андроником; это замечательное событие произошло на именинах Мухоедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувствовался и даже облобызал свою духовную дщерь и совсем дружелюбно проговорил ей:
— Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь… Нет, не сержусь!..
— И я, дева, не сержусь, — говорила Фатевна, закатывая глаза.
Под веселую руку о. Андроник называл Фатевну «братчиком», а она, в свою очередь, называла его «девой», впрочем, без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности.
На именинах Мухоедова собрались почти все заводские служащие, кроме Слава-богу, докторов и о. Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам; в числе гостей был Ястребок и «сестры». Гаврило Степаныч не был, потому что переехал уже на Половинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло, все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб, но, как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело, развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение о. Андроника с Фатевной, приветствуемое общим одобрением. «Сестры» присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку; Асклипиодот, успевший порядком клюнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл «актрисой» и на которой с замечательным искусством откалывал «барыню» и «камаринского». Пение «сестер», пиликанье Асклипиодота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозможно передать словами; общее одушевление публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все: сельский учитель плясал с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и т. д. Асклипиодот усердствовал и показывал на своей «актрисе» чудеса искусства, такие пиччикато и стаккато, от которых даже сам о. Андроник только кряхтел, очевидно негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими вприсядку; когда посторонней публики поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна; она с неподражаемым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела о. Андроника в какое-то исступление, он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места:
— Чище, чище, чище!.. Чище, шельма! Чище, каналья!.. О-го-го!!.
Галактионовна принуждена была дернуть о. Андроника за рукав рясы, чтобы умерить его шумный восторг; когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота; он вообще плясал русскую отлично, а когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества дочери и снова пустилась в пляс, но на этот раз ноги уже плохо, слушались ее, и она несколько раз теряла такт.
— Настоящая Иродиада, пляшущая пред Иродом, — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и о. Андроника.
— Хорошо… Фатевна пляшет отлично… Хорошо! — заявлял заплетавшимся языком Асклипиодот. — Хорошо… А я могу ее сконфузить!..
— Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня! — кричала Фатевна. — Ты посмотри на меня, дева, какая я женщина, ведь я, дева, как верба…
— Хорошо!.. могу сконфузить, — продолжал утверждать Асклипиодот.
Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился вприсядку; плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно: уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг.
— Сконфузил, братчик, совсем сконфузил! — провозгласил о. Андроник. — Ну-ка, Фатевна, валяй колесом… О-ха-ха-ха!!.
На именинах Мухоедова я познакомился с «сестрами», и в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал «заглянуть в его избушку»; мне очень хотелось посмотреть, как жили «сестры» у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны; это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, с зелеными ставнями, крепкими воротами и темным громадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины — переднюю и заднюю; в передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином, в задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет тридцати пяти, среднего роста, с бойким плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой; это был разбитной заводский человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью старшего брата: высокий, худой, с угрюмым лицом, он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты; у Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как-то особенно уютно, каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее исконное русское довольство, как, быть может, жили богатые мужики еще при Аскольде и Дире, при Гостомысле, за великими московскими князьями: количество потребностей оставалось то же самое, как ими владел и самый бедный мужик, вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты — «сестры» ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винта все подавляло высоким достоинством своего качества; любители заморского удивляются чистоте немецких домиков, но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников — не знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, а не удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда, но зато уж если сделано крыльцо, так это именно крыльцо, которое простоит сто лет, и ни одна половица не покосится; если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что только можно выкрасить: и красиво с известной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом: глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливые движения, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека, она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана: налево от дверей широкая русская печь, над самыми дверями навешаны широкие полати, около стен широкие лавки, в переднем углу небольшой стол, и только. Стены были выструганы гладко, и, вероятно, их часто мыли с песком; лавки и полати были выкрашены синей краской, пол желтой охрой; в переднем углу висело несколько потемневших образов и медный складень с засохшей вербой за ним.