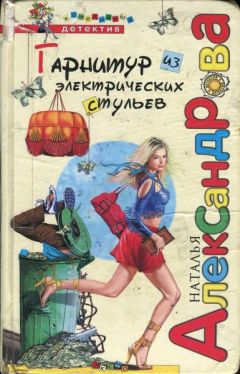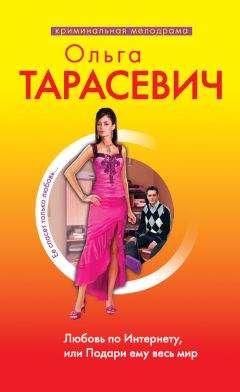Явдат Ильясов - Пятнистая смерть
В освободившихся домах поселились с женами, детьми и прочими родичами копейщики и меченосцы, щитоносцы и лучники персидского отряда, размещенного в Ниссайе. Одно из просторных жилищ занимает семья Михр-Бидада. К ней, к семье, и спешит сейчас доблестный арий, сын ария.
Михр-Бидад входит во двор, как можно выше задрав голову.
Как живот - от гороховой похлебки, молодого перца пучит от нестерпимого желания поскорей рассказать домочадцам, что приключилось с их ненаглядным Михр-Бидадом сегодня.
Обычно согнутый наподобие лука вперед, он нынче так заносит нос и выпирает тощую грудь и брюхо, что выгибается, опять же, точно лук, но теперь уже назад, и тетива его становой жилы звенит от ликования. Будто на Михр-Бидада упала тень сказочной птицы Хумаюн. Говорят, человек осененный ее крылами, непременно удостоится царской тиары.
Ах, братья, какая удача.
Ох, други, какой успех.
У наполненного мутной водой бассейна, на ковре под яблоней, сидят родители Михр-Бидада, младшие братья и сестры, жена с шестимесячным ребенком на смуглых руках. Они ждут Михр-Бидада к ужину.
Рядом, на циновке - рабы с женами и детьми. На Востоке хозяин и раб вместе работают. Правда, большая часть труда выпадает на долю раба. На Востоке хозяин и раб вместе едят. Правда, большая часть пищи выпадает на долю хозяина.
- Иду на войну, - важно объявляет Михр-Бидад, сбросив сапоги, вымыв руки и усевшись рядом с отцом, по правую руку. После отца - он старший мужчина в семье. По левую руку от хозяина - хозяйка.
- Вах! - восклицает старик. - Против кого война?
- Против саков аранхских.
- Доброе дело, доброе - оживляется старик, бывалый рубака, дравшийся с мадами, ходивший на Лидию. - У саков, я слыхал, хорошие кони и овец много.
- Тебе бы только овец и коней! - вздыхает старуха. - У саков, я слыхала, и луки неплохие, и стрел у них немало. Да и сколько их достанется, овец и коней? Гонят на войну - обещают десять сум золота. А как начнут делить добычу - одни объедки нам остаются. Лучшее уходит в казну царя, в лапы его приближенных.
- Молчать пустая ступа! Где ест тигр, там сыт и шакал. И тебе перепадет что-нибудь. Вам, бабам, только б вздыхать. Мужчина сотворен для битв.
- Сегодня беседовал с Курушем, - небрежно говорит Михр-Бидад и зевает равнодушно и скучающе. А самому... самому так и хочется вскочить и пуститься в пляс.
- Вах! - подпрыгивает старик. - И что?
- Царь запомнил меня еще с тех дней, когда я был у него в Задракарте. "Раносбат хвалит тебя, - сказал Куруш. - Я люблю храбрых и преданных людей. Служи так же хорошо, и ты станешь одним из моих телохранителей".
- Вах! - Старик резко отодвигает глиняную миску с гороховой похлебкой. - Сегодня такой день... Эй, Аспабарак! Бросай все! Режь барана. Праздник у нас!
Он восхищенно глядит на Михр-Бидада, треплет растроганную старуху за плечо, всхлипнув, утирает слезу.
- Спасибо жена! Твой сын... мой сын... спасибо, спасибо!
Носятся по двору, хлопочут домочадцы.
Братья и сестры пристают к Михр-Бидаду:
- Пригони мне черного жеребенка.
- А мне - рыжих ягнят!
- Верблюжонка!
- Сакских девочек! Мы будем с ними играть.
- Ладно, хорошо. Пригоню. - Михр-Бидад мягко отстраняет ребятишек и подходит к жене. Она сидит, опустив голову, на краю глинобитного возвышения и одна во всем доме не радуется новости.
Михр-Бидад - удивленно:
- Ты чего?
Жена - глазастая, юная, похожая больше на девчонку, чем на мать полугодовалого ребенка - крепко прижимает к себе сына и всхлипывает:
- А если тебя... убьют?
У Михр-Бидада жалостно раскрывается рот. Но тут ему приходит на память, как обращается с матерью отец. Михр-Бидаду стыдно за свою слабость. Он смеется натянуто:
- Бе, дура! Кто меня убьет? Не родился еще человек, который...
Он досадливо машет рукой - стоит ли с тобой разговаривать! - и уходит, гордый и воинственный, прочь от возвышения.
Известно, конечно, молодому персу: на войне убивают. Но, как всякий человек, собирающийся в поход, щитоносец непоколебимо верил, что именно его-то обязательно минует вражеская стрела...
Зажарен на вертеле баран. Принесен мех с вином. Созвана в гости толпа ближайших соседей. Далеко за полночь шумят во дворе мужчины.
- Война против саков - дело, угодное богу Ахурамазде, - изрекает свысока приходский жрец огня, усевшийся, по нижайшей просьбе хозяина, на самое почетное место. - Ибо кочевники Турана - племя неверных, двуногие скоты, люди-насекомые. Они не рождаются - вываливаются из материнского чрева. Не умирают - околевают. Не ходят - несутся или волокут ноги. И не едят, а жрут, - убежденно говорит жрец.
Гости не спускают с Михр-Бидада заискивающих глаз.
Повезло человеку!
Стать телохранителем царя - великая честь, заветное желание каждого перса. Но не каждому персу это доступно - жизнь повелителя доверяют обычно лишь сыновьям родовых старейшин, богатых людей. Михр-Бидад - из простых, а сумел угодить Курушу. Повезло. Успех и удача.
Приятно оглушенный сладким вином, обильной закуской и завистью окружающих, блаженствует Михр-Бидад, парит в мечтах, как на широких и мягких крыльях волшебной птицы Семург.
Весь дом веселится. Только Фаризад, жена Михр-Бидада, всеми забытая, сидит на корточках в уголке двора, кормит ребенка и горько плачет. И откуда берется столько слез?
Они струйками заливают маленькую грудь женщины и смуглое лицо малыша. Ребенок то и дело отрывается от соска, беспомощно мигает мокрыми от материнских слез черными глазами и тонко хнычет. Горе. Печаль.
"Война? Хорошо! На войне позволительна любая гнусность.
Сними узду с низменных желаний.
Испытывай самые дикие удовольствия.
Удовлетворяй самые пакостные поползновения твоей души.
Падай на самое дно. Валяйся в гуще мерзостей. Раскрутись до последнего витка. Можешь резать, вешать, топить, рубить, похабничать, насиловать, жечь.
Можешь все!
Тебя только похвалят. Ты - арий, ты - благородный, ты - господин. И ты - на войне..."
- Раносбатэ-э-эй! - восторженно завизжал Михр-Бидад, откидывая длинной ногой вышитый полог, прикрывающий вход в шатер военачальника.
Перс волок, накрутив косы на руки, двух пленных сакских девушек.
Они бились у его бедер, кричали, царапались, кусались, словно молодые тигрицы, пойманные охотниками в зарослях. Михр-Бидад встряхивал их за волосы, чтоб усмирить, и пьяно гоготал, покачиваясь из стороны в сторону.
- Раносбато-о-оу! Хоу, Раносбат!
- Хо-оу, Михр-Бидад! - провизжал в ответ Раносбат. - Ну, влезай! Где ты застрял?
- Двух куропаток подстрелил, ха-ха-ха!
- Куропаток? Д-давай их сюда!
- Помоги! Тяжелые. Упираются...
Раносбат, шатаясь, выбрался наружу. При виде юных пленниц глаза военачальника радостно округлились. Он завопил, как зритель на конских ристалищах:
- А-ай, чудо! Ты золотой человек, Михр-Бидад. Золотой человек!
Вдвоем, путаясь ногами, спотыкаясь и ругаясь сквозь смех, персы затащили девушек в шатер и швырнули на груды безобразно разбросанных шерстяных полостей, одежд, мягких седел, войлочных попон, расшитых чепраков, пустых кувшинов и блюд.
...Аранха. Пятнадцать дней, придерживаясь старой караванной тропы, ползло, извиваясь огромной гадюкой меж дюн, по дну оврагов сухих, через спины пологих бугров, персидское войско от Марга к великой реке.
Пока разведка шныряла в окрестностях лагеря, осматривая берег и выискивая место, удобное для переправы, конники и пехотинцы отдыхали.
На пути войску не попалось и пустого шатра.
Перед тем, как выступить из Марга, персы распустили слух, будто Куруш ведет на Томруз двести тысяч отборных рубак. На самом деле воинов у него было не больше двадцати-двадцати пяти тысяч, и не только персов чистокровных, но и варкан, партов, мадов, дахов, маргушей и вавилонян.
Слух распустил для устрашения Турана. Так делалось всегда. Жалкая горсть кочевников, населявших равнину между Мургабом и Аранхой, рассыпалась в ужасе и ударилась в бегство. Одни потянулись на север, к Хорезму, другие - на восток, за Аранху.
Легкой коннице Гау-Барувы посчастливилось захватить на левом берегу несколько крупных семейств, не успевших переправиться на ту сторону. Царь повелел стариков и детей бросить в Аранху, зрелых мужчин и юношей заклеймить и отправить в обоз, а женщин распределить между военачальниками.
Двух сакских девушек он подарил Раносбату; их-то и приволок Михр-Бидад.
- Эй, не спать! Играйте... - Раносбат разбудил пинками двух пьяных телохранителей, развалившихся у входа.
Те, уныло бормоча и хмельно икая, поднялись кое-как, уселись плечом к плечу, нашарили бубен и дудку и заиграли, не открывая глаз. Головы их бессильно свисали то вправо, то влево и стукались, как тыквы.
Дудка пронзительно верещала, испуская один и тот же высокий, душераздирающий звук.
Бубен ухал и бухал без всякого склада и ритма. Будто не музыкант бил в него, а сонный осел, желая сбросить оводов, вцепившихся в ляжку, встряхивал задней ногой и ударял нечаянно в туго натянутую на обруч кожу.