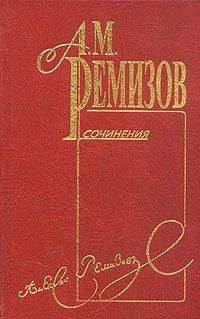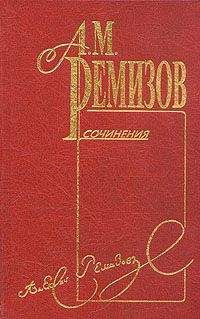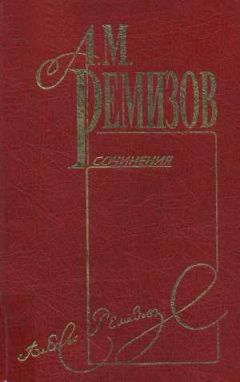Алексей Ремизов - Том 3. Оказион
Женя рассказывал няньке, как в больнице к одной девочке мать приезжала и привезла много пирожных разных, трубочки, и он тоже ел их, и почему-то было очень смешно. Женя рассказывал, словно только-только что говорить научился, торопился, все пересказать хотел, что видел и слышал. И смеялся. Это когда он выздоравливать стал, произошло что-то смешное. Смеялся он и рассказывал.
А я думал, не разбирая слов, слыша лишь один его смех, как ему хорошо все, вся эта жизнь наша хороша, и так ее много у него, что и девать-то некуда, всю раздарил бы и еще осталось бы. И вот она бьет из души у него, из самой глуби ее, и светится через большие глаза его — звезды, и светит мне прямо в душу.
И совсем ведь неважно, что отец его мелкий чиновник, получает гроши какие-то, и в доме нет матери, и квартиренка у них тесная, и холодно, совсем это неважно, у него сейчас мир весь со звездами — дом его.
И мне не хотелось выходить, так бы все и сидел и слушал и смотрел, и смотрел бы на него, на его открытые, Словно впервые увидевшие жизнь, такие большие глаза-звезды, на улыбку его, на его белый платок.
Счастливый, как он был счастлив! И за эти счастливые минуты его — и мои счастливые я благословляю нашу тревожную, жуткую и неверную и, как смерть, неизвестную жизнь.
1912 г.
Белый заяц*
Ехал я как-то из Петербурга, скажу прямо, в ожесточении ехал я: много было такого, чего душа никак не могла принять. И я не только не ожидал встретить что-нибудь хорошее, напротив, сам как-то вызывал дурное, искал его.
В одном купе со мной оказался актер, и этот актер рассказами своими о всяких закулисах и жалобой на сякую подлость актерскую еще более растравил мое отравленное ожесточенное чувство.
Ожесточение я вижу с головой ежиной, отчаяние представляется мне совсем без головы, вместо головы торчит щетина. Бог миловал, до этого еще не дошло.
Проехали мы тягучую ночь, слез мой актер, и освободившееся место занял старичок генерал.
Ехали, помалкивали. Была у меня с собой книжка, думал, почитаю тихонько и успокоюсь. Да куда уж читать: все во мне ходуном ходило. И строчку до конца не доведешь, вспомнишь что-нибудь, вспомнишь день какой, и заслонит жизнь строчку, потеряешь нить, начинай сначала.
Долго я так бился и страницу не осилил, сложил книжку. Так сидеть — скучно, вышел я в коридор и вижу, 413 соседнего купе выглядывает мальчик. В другое время, уж наверное, заговорил бы с ним, а тут как-то не до кого было, — пускай выглядывает, все равно. Стоял я у окна, смотрел.
Весна была, чуть только деревья оделись в свою такую нежную весеннюю зелень, когда каждый листок отдельно видишь, такой нежный зеленый, и веришь и не веришь, словно не вправду все, и кажется только.
Долго я так смотрел и еще бы смотрел, если бы не остановка: поезд вдруг остановился. Я — на площадку.
— Что случилось? — спрашиваю пассажира: из другого вагона вышел пассажир, как и я, должно быть, посмотреть, что случилось.
— Лошадь под поезд попала, — сказал пассажир.
— Переехали лошадь, — сказал проводник, тоже вышедший на площадку, — хвост нашли, внутренности, кишки, а лошади самой нету, — и он нагнулся к буферам, посматривая на рельсы: — может, где и лежит.
И я нагнулся:
«Тронется, — думаю, — поезд, буду следить, на рельсах коня увижу!» — и вдруг почувствовал, что сзади кто-то протискивается. Оглянулся, а это тот самый мальчик, что из купе выглядывал: он слышал наш разговор и тоже тянулся коня на рельсах смотреть.
Я отвел мальчика в вагон, с этого и началось наше знакомство.
И уж не один я стоял у окна, а с Костей. И Костя как и я, смотрел на зеленые деревца, на зеленое поле. Костя все ждал, не выйдут ли медведи: медведи в лесу живут, за деревами.
Была большая остановка. На платформе к окну подошли девочки с молоком, а у самой маленькой в лукошке сидели зайцы: зайцы, как зайцы — уши, как следует, усы нитяные, хвоста совсем нет, вместо глаз черная пуговица и все зайцы разные, одни в зеленых пятнах, другие в малиновых, третьи в кубовых, — пятачок за зайца.
Я выбрал себе малинового. Подает его мне девочка.
— Спасибо! — слышу голос сзади, и чья-то рука тянется, за моим зайцем.
Да это Костя, Костя тянулся за моим зайцем.
Ну, и отдал я ему зайца, и началось у нас не просто знакомство, настоящее приятельство.
Заяц, конечно, оказался живой, как сам Костя, только спит заяц. Но это не сразу открыл Костя; Костя долго трогал зайца, глаза заячьи — пуговицы, и как-то тревожно посматривал на меня, потом уронил его на пол, поднял, поднес ко рту и успокоился: заяц живой, только спит заяц.
Костя не расставался с зайцем и ни на шаг не отходил от меня.
Мы сидели в купе и разговаривали. И молчаливый старичок генерал разговорился. Заяц разговорил генерала.
Генерал рассказал нам, как он ездил к сыну, сына проведать, заезжал помолиться к Ефросинии Полоцкой в Полоцк, а теперь домой в Николаев едет.
Старый старик генерал наш, дедушка, нет зубов у него, а у Кости меняются, и хоть осталось, да не очень много. Сижу, ни о чем не думаю, дремлется. Генерал с Костей ведут разговор: один другого спрашивает и отвечают друг другу. Что говорит генерал, вряд ли понятно Косте, непонятны и Костины слова генералу, но разговор идет мирно.
И вообрази Костя, что генерал, как только настанет ночь, заснут все, тут генерал возьмет, да и украдет у Кости зайца. А вообразил это Костя, должно быть, потому, что старичок уж очень зайца его гладил и за ус теребил и похваливал.
И до самого вечера только тем и был занят Костя, что от генерала зайца прятал, мать свою растормошил совсем, добивался до большого тяжелого чемодана, в самый чемодан хотел запрятать от генерала своего зайца.
Съел ли чего Костя или от тряски, разболелся вдруг у Кости животик и уложили его бай-бай и зайца его с ним.
Но простился я с Костей, не погладил его зайца и генерал не простился. Вдвоем с генералом без Кости остались мы проводить ночь. И всю ночь просидели мы друг против друга, всю ночь проговорили. Не я, старичок генерал говорил: рассказывал он мне свою жизнь большую И долгую и трудную. И было в ней столько добра и теплоты и любви и верности и желания — вся жизнь для других прошла.
Стало светать, уложил я старика и сам прилег.
В соседнем купе Костя спал с зайцем. Костя спал и Костин враг — генерал спал, оба спали тихо.
И я подумал:
«Чудак ты, Костя, ну, зачем дедушке твоего зайца брать, у него свой есть. И живи он в старое время, его непременно изобразили бы с зайцем, как в житиях затворников пишут. Спи, Костя, ты со своим зайчонком малиновым, а наш дедушка со своим, он, Костя, у него совсем-совсем белый».
1912 г.
Заветные сказки*
Был я тогда совсем маленький, лет шесть мне было, не больше, и был у меня приятель кот, такой кот-воркота чудесный, белогорлистая шея, серый хвост, и очень усатый, а курлыкал и мурлыкал, вроде как разговаривал. Не помню, с чего повелось, только ввечеру, перед ужином я укладывался на пол, у горячей печки, и тут же прилаживалась к печке старая наша нянька, и приходил кот мой любимый.
Свет не зажигали в детской, одна лампадка горела Скорбящей — малый огонек, а все видно: старуха-нянька за лампадкой ходила.
Кот запевал песню — где-то теперь мой кот усатый, где его душа витает? — запевал кот ласково песни, тепло ему, приятно было: там под полом тоненько скреблась мышка-теретышка, я ему, усатому, под его белым горлышком шейку почесывал, — и нянька начинала сказку.
Пелась песня, сказывалась сказка — об Иване-царевиче и сером волке, моя любимая сказка.
Я все мечтал обернуться волком, стать самим серым, и все твердил за старухой, как скажу Ивану-царевичу, когда, не узнав меня, примется за меня царевич:
— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!
Я все мечтал, я все хотел пройти ту опасность смертную, что волку выпала. Ведь, волк-то для царевича все сделает, волк из беды царевича выручит, от самой смерти, уж на куски разрезанного, снова вернет к жизни, а царевич смотрит и не узнает волка, не видит, не узнает серого и хочет порешить с ним.
— Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!
Так с полным сердцем, готовым к смертной опасности, я слушал любимую сказку и повторял заветные слова серого волка.
Уж по двору дрёма бродила, собирала она наряд себе, расспрашивала, где кто спит и рыбка-соломинка ни хвостика у ней, ни ребрышка, только одна спинка — огненная рыбка плыла у меня в глазах.
Но, бывало, в сумерки… но это уж про другое из тех же первых дней, когда зацветшая крапива да лапушник казались, как кудрявая калина, калина — с горку, гора, как облаки, а облаки-небо, как крыша, чуть что разве повыше нашей крыши, другое я вспоминаю, такое странное — и легкое и грустное, как тонкий сон.