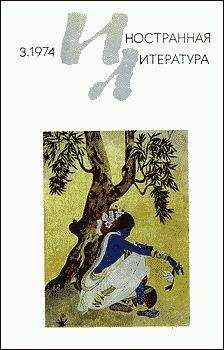Лев Тимофеев - Играем Горького
- Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом учиться, пробормотал Протасов.
Силы были на исходе. Сутки прошли с тех пор, как Магорецкий завтракал с Глиной, а Протасов пил здесь с ребятами кофе и рассуждал о Михалкове и Хамдамове - и какие сутки! Теперь надо добираться домой, а для начала просто выйти на воздух.
Решили, что Протасов поднимется на минуту к Телке, а Магорецкий пойдет ловить машину. Когда он вышел из подъезда, было уже часов семь утра. Во дворе было пусто, и, хотя снег был истоптан десятками ног, в том месте, где ночью лежало мертвое тело, остался белый незатоптанный островок. Возле него стояла Младая Гречанка. "Смотрите-ка, розовые лепестки на снегу. Как красиво!" - сказала она, обернувшись и узнав Магорецкого. "Да, да, - сказал он, - очень красиво". Он взял ее под локоть и повел прочь. Он-то сразу увидел, что это не розовые лепестки, а мелкие окровавленные осколки черепа.
Ляпа
Из своей серебряной коробочки, постучав углом ее о подоконник, чтобы ничего не прилипло к стенкам и к донышку, он вытряхнул все до пылинки. Руки дрожали, и малая толика серого порошка все-таки просыпалась на тетрадный лист, который обязательно входил в состав его приблуда и который он, начиная химичить, всегда аккуратно раскладывал на подоконнике. Ценнее этого порошка в его жизни ничего не было, и, если бы он мог увидеть молекулу героина, он бы и ей не дал затеряться. Впрочем, в этот раз в ложке и без того было раза в три больше его обычной суточной дозы. Этого должно хватить. Он посмотрел спиртовку на просвет и увидел, что в ней сухо. Но фитиль еще был влажным на раз хватит. Последний раз. Вот и хорошо, ничего не остается. В этом была успокаивающая гармония - гармония ухода: не оставлять ничего, что могло бы зацепить, задержать... Крича от боли, он всё, до упора, "задвинул" по больной, исколотой вене и издалека бросил свой фартовый баян в кухонную мойку, услышав, как он разлетелся осколками. Это его баян, часть его души, и он никому не должен достаться. Теперь надо пойти и принять душ. Он знал, что, когда все будет кончено, никто его обмывать не станет, так что заранее решил, что все сделает сам: примет душ, вернется в кресло и будет ждать, когда его "загрузит"...
Вот и хорошо, вот и загрузило. Теперь он утратил ненужное тело и заполнил собой, своей легкой пустотой, весь объем огромной квартиры. Он сам стал объемом, пространством, пронизанным светом. Это освобождение от тела и было счастьем. Но в этом пространстве в лучах света, нарушая абсолютную гармонию пустоты, иногда быстро возникали люди - возникали из ниоткуда и пропадали в никуда, - даже не люди, а только лица: вдруг проявлялись, плавали в светлой пустоте размытыми желтыми пятнами. Иногда он слышал звук речи и по интонации догадывался, что это к нему обращенные просьбы или угрозы, но в чем их смысл, не знал да и знать не хотел. Время от времени пространство переворачивалось, и тогда бестелесные лица плавали вверху или, наоборот, внизу. Вот через все пространство проплыло, потом вернулось и опять повторило тот же путь размытое лицо Настасьи, а рядом с темно-желтым пятном лица плавали ее сухонькие старческие кулачки, и он догадывался, что она хочет ударить его, она, видимо, не знала, что ударить его нельзя, потому что теперь он всего только пустота, занимающая объем квартиры, а бить пустоту бессмысленно. В какой-то момент рядом с ней стало плавать белое пятно - лицо каркающего глухого. Но решить наверняка, действительно ли эти люди возникали в его пространстве или это только какое-то воплощение его собственных мыслей об этих людях, он не мог. Так явилась Телка и вскоре исчезла, и он уже не был уверен, что она вообще появлялась. Хотя он даже разговаривал с ней, ласкал, утешал, потому что она, рыдая, жаловалась, что она - товар и никто ее не воспринимает как человека. Но она - человек. А там, внизу, двое пьяных мужиков даже не заметили, что она пришла к ним. И только у него, у Ляпы, есть душа. И она любит его... В какой момент она исчезла, он так и не отметил. Да и была ли вообще... И вдруг он понял, что она осталась здесь навсегда, что их теперь двое: он и колышащийся свет Телкиной души. И он знал о ней все. Знал, что сейчас она, обняв подушку, спит. Знал, что именно ей снится, - так, словно сам видел этот сон...
А снилось Телке, что она попала в дом престарелых. Там ее встретил старый князь. Или даже не встретил, а ее к нему послали. Князь сидел в кресле-качалке на освещенной солнцем веранде и курил трубку. На нем были какие-то свободные белые одежды, какие носят богатые индусы. Князю было лет сто пятьдесят. Там были и другие старики и старухи, но моложе, лет по сто. Вот они-то толпой и встретили Телку при входе и послали к князю. "Иди работай, чем зря болтаться", - сказали ей строго. Князь курил трубку и шил мешки. Левой рукой он чуть раскатывал штуку полотна, а правой легко отрывал кусок по размеру обычного мешка. Потом складывал ткань вдвое и большой иглой сшивал с трех сторон, оставляя наверху небольшой проем, который закрывался кожаным клапаном и застегивался на пуговицу, обтянутую черной кожей. Через этот проем, отстегнув клапан, Телка должна была набивать мешки гречкой с мясом. Плотно набивать: просунуть руку в мешок и кулаком утрамбовывать, чтобы больше поместилось. Гречку она жарила на сковороде тут же, под руководством князя: он несколько раздраженно пальцем указывал, куда двигать сковородку. Телка держала сковородку то над открытым огнем, и тогда гречневые зерна, приятно потрескивая, лопались, то над кипящей водой, и тогда зерна размягчались, но все-таки не превращались в кашу, оставались такими, что их можно было ссыпать. В гречку добавлялось белое куриное мясо, но, откуда оно бралось, Телка не заметила. Князь тоже набивал мешки и торопил ее. Да она и сама старалась всё делать быстрее, потому что ей очень хотелось есть, а есть князь не разрешал: сначала надо было набить мешки и отнести в дом, где их ждали три древние старухи, по-видимому, сестры. Одна из них была чуть моложе. Или казалась моложе, потому что единственная двигалась и говорила, тогда как две другие дремали в креслах. "Сегодня вы что-то долго, дорогой присяжный поверенный", - сказала она и тихо засмеялась, обнажая красные беззубые десны. И две другие старухи, не открывая глаз и не меняя положения в креслах, тоже засмеялись, широко раскрывая беззубые красные рты. "Помощники такие", - недовольно пробурчал князь. Телка заторопилась, сделала неловкое движение, мешок, который она несла на плече, зацепился за угол, лопнул, и из него вдруг густой струей потекла кровь... "Ничего, - подумала она, - кровь - это к родне, и ничего больше". - Она во сне повернулась на другой бок и дальше спала без сновидений...
"Ничего, кровь - это к родне", - повторил Ляпа и с тоской понял, что он-то просыпается, что из глубин счастливого подсознания его быстро и жестоко выносит на поверхность жизни. Он возвращается. "Нет, не хочу", подумал он и проснулся окончательно.
К последнему акту
К ним стучали, однако просыпаться не хотелось. За дверью в коридоре громко говорили сразу несколько человек - все разом. Особенно выделялся высокий и крикливый голосок милицейского старлея: "Я ничего не знаю. Сказано, что сегодня начинается снос. К десяти часам приедут машины. Дом надо освободить!" Что-то возражал Балабанов, но его почти не было слышно. И вдруг где-то в конце коридора, должно быть, у входной двери, громко, во весь голос закричала Телка:
- Вы... иди... идите сюда! На втором этаже... там... Ляпа повесился!
Гриша Базыкин повернулся на бок и погладил жену по щеке.
- Просыпайся, любимая, - сказал он.
- Что там? - спросила она.
- Всё то же, - сказал Гриша, - играем Горького.