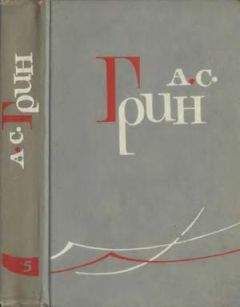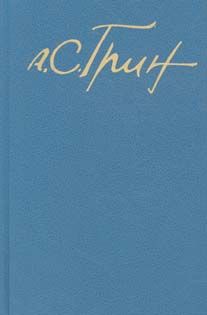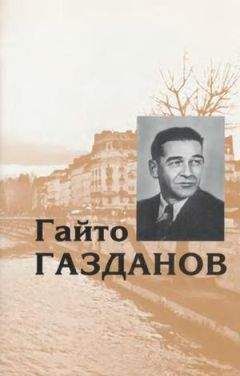Гайто Газданов - Эвелина и ее друзья
- Конкретно - нет. Метафизически - да, то есть в дьявола именно как олицетворение этого отрицательного начала мира.
- Но вы знаете, что для торжества христианства дьявол необходим, тот самый дьявол, который искушал Спасителя. "Отойди от Меня, Сатана!" Надо ли еще раз напоминать, что если бы его не было и не было зла, то как бы мы знали, что такое добро? Если бы не было ни страданий, ни преступлений, то не было бы, может быть, ни христианства, ни необходимости религии. Вы все это знаете так же хорошо, как и я, это азбучные истины. Но оттого, что они азбучные, они не перестают быть истинами.
- Есть еще один вопрос, - сказал он, - который я ставил себе много раз: почему жизнь так нелепа? Вам он, наверное, покажется по-американски наивным.
- Нет, я думаю, что это вопрос не американский и не наивный. Я полагаю, что очень немногие люди могут с уверенностью считать, что они созданы для той жизни, которую они ведут, и это чаще всего люди неумные. Возьмите большинство профессий, - они носят явно искусственный характер, и мне приходит в голову такая мысль: думал ли Господь Бог, создавая мир, что рано или поздно начнут существовать кассиры, агенты страховых обществ, служащие того или иного министерства, администраторы и так далее? Все это, вероятно, необходимо, но все-таки люди не рождаются контролерами или бухгалтерами. Но вот каждый человек втиснут в какие-то рамки и он действует в их пределах, независимо от того, нравится ему это или нет. И если он начинает думать об этом, - что, правда, делают далеко не все, - то он, конечно, понимает то, о чем вы говорите, что жизнь сложилась нелепо.
- Вы считаете, что нет вообще естественных профессий, то есть в которых есть соответствие человеческой природе?
- Есть, я думаю.
- Например?
- Воин, судья, учитель, врач, проститутка, архитектор, поэт, скульптор, художник, музыкант, ученый. Есть, вероятно, и другие, я говорю только о тех, мысль о которых сразу приходит в голову.
- Вот мы говорили о христианстве, - сказал он. - Знаете, что меня больше всего поразило в истории, которая связана с христианством? Вы, конечно, помните это. Когда Аттила со своими войсками подошел к Риму и Рим был лишен возможности защищаться, то из ворот города, направляясь к палатке Аттилы, вышел босой старик, папа Лев Первый. Он разговаривал с Аттилой несколько часов и потом вернулся в Рим. И Аттила отдал своим войскам приказ отступать. Ничто не мешало ему взять город и разграбить его бесчисленные богатства. Что мог сказать Лев Первый этому варвару, предводителю свирепых и диких гуннов? Может быть, за плечами Льва Первого стояла тень Христа? Во всяком случае, это торжество непобедимого христианства.
- Да, несомненно, - сказал я. - Это мне тоже всегда казалось необъяснимым. Но не забывайте, что Аттила, вопреки обычным представлениям о нем, не был варваром в подлинном смысле слова. Он учился в Риме, и в нем Лев Первый нашел, вероятно, достойного собеседника.
- Но все-таки это тот же Аттила, который сказал, что там, где пройдет его конь, не растет трава.
- Это, я думаю, фраза апокрифическая.
- Может быть, но это на него похоже. Я по временам взглядывал на моего собеседника и убеждался, насколько мое первое представление о нем было неправильным. Выражение его глаз изменилось, и он перестал быть таким, каким казался мне вначале, - человеком, не знающим сомнения и уверенным в своей юридической и этической непогрешимости. И я подумал, что, может быть, христианство ему было необходимо, чтобы как-то сохранить свое душевное равновесие и оправдать свою жизнь и работу, это было нечто вроде стены, на которую он мог опереться. Но эту работу он вел добросовестно. Я судил об этом потому, что он мне сказал, что с Ривьеры он возвращается в Соединенные Штаты, - в то время как я был совершенно уверен, что следующий этап его путешествия - это Париж и что следующим его собеседником должен быть Мервиль.
Мы с ним расстались у входа в его гостиницу, куда я его довез на автомобиле. Он поблагодарил меня, сказал, что не забудет этого вечера и нашего разговора, просил меня непременно дать ему знать, если я приеду в Америку, пожал мне руку, толкнул вращающуюся стеклянную дверь гостиницы - и исчез. Я вернулся к себе, разделся, лег в кровать, вспомнил еще раз удивительные узоры ушей моего случайного собеседника и заснул крепким сном.
x x x
На следующее утро я проснулся и вдруг почувствовал, - я никогда не мог понять до конца, почему именно, - что Ривьера, Канны, Средиземное море, буйабес - все это внезапно потеряло для меня ту прелесть, которую я с такой силой ощущал еще накануне. Я позвонил в Париж Мервилю, чтобы сказать ему, что я уезжаю в Италию.
- Что у тебя нового? - спросил я.
- Я ее ищу.
- Каким образом? Где?
- Я дал объявление в газетах, французских и американских. Я чувствую, что она должна откликнуться. Остается только ждать этой минуты, ты понимаешь?
- Я понимаю, - сказал я, - теоретически, конечно. Но я хотел тебя предупредить, что, вероятно, завтра к тебе явится некий Болтон, из американского министерства юстиции, который был у меня вчера и с которым я ужинал. У него, между прочим, необыкновенные уши, обрати внимание. Он будет тебя расспрашивать.
- Если он надеется...
- Я не думаю, чтобы у него были особенные иллюзии, он человек неглупый, - сказал я. - Но вопросы тебе он будет ставить.
- Что ты ему сказал, когда он с тобой разговаривал?
- Моя задача облегчалась тем, что мне действительно нечего было ему рассказывать. Ты - это дело другое.
- Ты его не предупредил, что не стоит ехать в Париж?
- Нет, потому что он мне сказал, что возвращается в Америку первым аэропланом. Я не очень убежден, что он думал, что я ему поверю, но ставить меня в известность о своих планах он, конечно, не мог. это понятно. Хотя бы для того, чтобы я тебя не предупредил о неизбежности его визита.
- Если все его расчеты так же правильны, как этот... Значит, ты едешь в Италию? Не забудь мне сообщить твой адрес. Я тебе позвоню и сообщу, что происходит.
Я уложил вещи, расплатился в гостинице, сел в автомобиль и поехал к итальянской границе. Я проехал через Сан-Ремо, затем свернул с итальянской Ривьеры к Адриатическому побережью и, переночевав в Генуе, приехал в Венецию. Затем, поставив автомобиль на паром, я пересек лагуну и поселился на Лидо. Опять было море, освещенное солнцем, - лошади на соборе святого Марка, крылатые львы, виллы и дворцы над каналами, и опять, в который раз, я смотрел на этот единственный в мире город, и мне снова казалось, что когда-то, в давние времена, он медленно всплыл со дна моря и остановился навсегда в своем последнем движении: застыл каменный бег линий, образовавших его дома, влилось море в берега каналов и возник этот незабываемый пейзаж лагуны, мостов, площадей, колонн и церквей. И без всякого усилия с моей стороны я чувствовал это необычайное артистическое богатство, к которому я становился как будто причастным, так, точно я давно, всегда знал, на что способен человеческий гений, так, точно часть моей души была вложена в эти картины, статуи, дворцы, так, точно, попадая туда, я переставал быть варваром и ощущал наконец все великолепие раз навсегда и безошибочно найденной гармонии, непостижимой для меня ни в каких других обстоятельствах. В это время года - был конец июня - туристов в Венеции было еще не так много, и вечерами я сидел в кафе на площади Святого Марка, слушая оркестр, игравший иногда самые неожиданные вещи, вплоть до русских романсов в особой, итальянской интерпретации, скрывавшей их неизменную славянскую печаль, растворявшей в итальянском звучании эти снега русских полей и эти зимние российские пейзажи, которые как-то не вмещались в южное венецианское пространство, - и думал о самых разных вещах, чрезвычайно далеких от моих недавних размышлений по поводу Мервиля и мадам Сильвестр.
Я написал ему короткую открытку, в которой сообщал, что приехал на Лидо и живу в такой-то гостинице. Проходили дни за днями, звонка из Парижа не было, и через некоторое время я потерял представление о том, где он находился и что он делал. Это меня несколько удивляло, хотя за время моей многолетней дружбы с ним иногда случалось, что я долгие месяцы не знал, что происходит с Мервилем. Но рано или поздно это всегда кончалось одинаково: телефонный звонок или телеграмма, его появление и очередной рассказ о том, что он никогда не думал... что он не понял... что теперь он знает лучше, чем когда-либо... И мне казалось, что каждый раз, когда Мервиль вновь входил в мою квартиру, неизменно печальный, после расставания с той, которая... - он возвращался в мир. где не могло быть ни неожиданностей, ни трагедий, ни сколько-нибудь значительных изменений, мир анализа и комментариев и попыток понять по-иному то, что происходило и произошло. В этом, на первый взгляд, была некоторая парадоксальность, так как Мервиль всегда начинал с того, что повторял истину, в бесспорности которой он был, по его словам, твердо убежден: логика и анализ, выводы и заключения неизменно оказываются несостоятельны, когда речь идет о движении человеческих чувств. Но как это ни казалось странно, он все-таки каждый раз возвращался именно к этому. Было, конечно, и нечто другое - уверенность в незыблемости этого мира: нас было несколько, и каждый из нас всегда был готов прийти другому на помощь, в чем бы она ни заключалась. И без этой помощи, например, я не знаю, что стало бы с Артуром, который нередко оказывался без пристанища и без копейки денег, и тогда он являлся к Мервилю или ко мне, зная, что все будет устроено и что его не оставят в беде. Совершенно так же поступала Эвелина - с той разницей, что у нее был такой вид, будто она нам делает одолжение и мы должны ценить то, что она обращалась к нам, а не к кому-нибудь другому. У Мервиля было иное положение - он был богат, но моральная поддержка была ему не менее необходима, чем материальная помощь была - Артуру или Эвелине. Ему было нужно что-то, что не может измениться, на что можно рассчитывать всегда. Конечно, об этом никогда не было речи, конечно, об этом никто никогда не думал, но это было именно так. И когда, после долгого отсутствия и путешествий - Америка, Канада, Испания - Мервиль входил в мою квартиру и садился в кресло, он говорил: