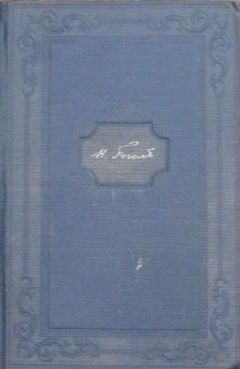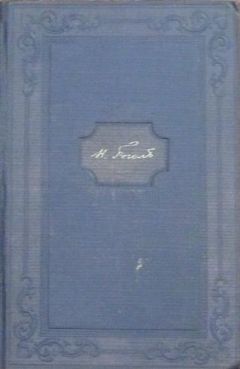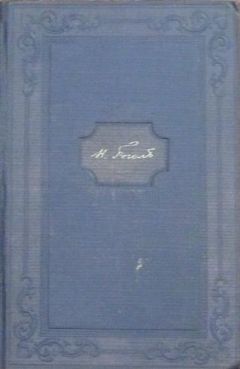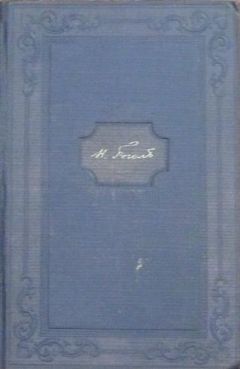Максим Горький - Такая разная любовь
«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.
Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.
— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.
— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.
— Ну, а любовь что? — спросили мы.
— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите… — закончил он.
Иван Сергеевич Тургенев
1818–1860
Отношения Тургенева и Виардо были явно анормальны. Это какой-то особенный феномен любви, страшно редкий, трогающий нежностью, глубиной, продолжительностью до «вечности» <…> Какая-то «радиоактивная» любовь. Известно, что радий «производит работу», но на нее не тратится: исцеляет, обжигает, светит непрерывно, а сам все «цель» и «тот же». Это чудо, открытое впервые в радии, поколебало даже «закон сохранения энергии», аксиому всего естествознания. В любви Тургенева есть эта же радиоактивность: любят, живут друг с другом, постоянно беседуют, говорят друг с другом <…> и не устают, не соскучиваются. Совершенно неприменима формула Лермонтова, такая страшная для любви, такая ужасная для всех истинно и глубоко любящих:
Кто устоит против разлуки, /Соблазна новой красоты. /Против усталости и скуки /И своенравия мечты?
Ужасна эта «усталость» и «скука», заволакивающая почти всякую семью, на 10-й, на 20-й год жизни. Но «невечность любви» есть почти поговорка о любви, ее в своем роде «закон сохранения энергии», или, в этом частном применении, «закон траты энергии». Она вечно та же, пока в «совершенной работе». <…> В этом ведь и заключается «закон сохранения энергии». Она — вечно та же, пока в покое, а как начала работать, — тратится, исчезает. В сущности, она «переходит в работу». И любовь, давшая «крылья» любовникам, и «переходит в это», в «груду сделанных дел», в «детей», меняясь и исчезая в своем первоначальном предбрачном виде, в этом розовом эфирном виде.
«Все уже отяжелело и… умерло. В 50 лет мы живем только привычкою», — говорят несчастливцы. Рок любви, судьба любви.
В любви Виардо и Тургенева этого нет. Как же это не любопытно? <…> Какая же семья не хотела «черпнуть немножко» этой вечности? Но как!
Но откуда! Эта загадка унесена в могилу Тургеневым и Виардо.
В. Розанов. Загадочная любовь. Отрывок
МОЙ СОСЕД РАДИЛОВ
…Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа… Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.
Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, — я выстрелил, и в то же мгновенье, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».
Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.
— Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.
Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно.
— Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может, слыхали, — продолжал мой новый знакомый. — Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.
Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник — остатки прежних «клумб». Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился.
— Впрочем, — сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае…
Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.
— Ну, как знаете.
Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешанной клетками, вошли мы в небольшую комнатку — кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.
— Ну, теперь пойдемте в гостиную, — ласково проговорил Радилов, — я вас познакомлю с моей матушкой.
Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.
— Вот, матушка, рекомендую: сосед наш ***.
Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.
— Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.
— Нет-с, недавно.
— Долго намерены здесь остаться?
— Думаю, до зимы.
Старушка замолчала.
— А вот это, — подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеич… Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?
Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрыпку, взял смычок — не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрыпку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия.