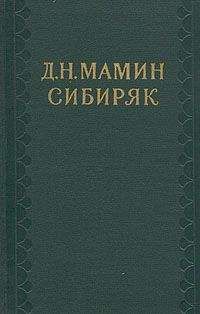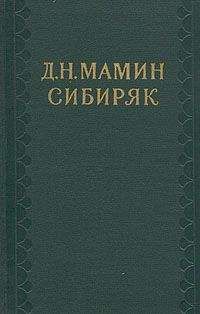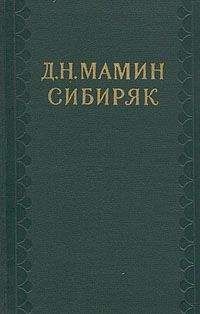Дмитрий Мамин-Сибиряк - Бойцы
– Где он пропадает? – спрашивал я у Савоськи.
– У Пашки на барке и днюет и ночует… Народ голодает, а он плешничает.
На третий день нашей стоянки «выворотилась» вторая крестьянская артелька. Это случилось как раз первого мая, в день Еремея-запрягальника. На этот раз побег «пиканников» был встречен всеми равнодушно, как самое обыкновенное дело. Нервы у всех притупились, овладевала та апатия, которая создается безвыходностью положения. Оставались пристанские бурлаки и «камешки», этим некуда было бежать, благо заплатят поденщину.
На четвертый день стоянки скрылись башкиры. Они сделали это так же незаметно, как вообще оставались незаметными все время сплава.
– Уж куда эта нехристь торопится – ума не приложу! – ругался Порша. – Крестьянин – тот к пашне рвется, а эта погань куда бежит? Робить не умеет, а туда же бежит… Чисто как лесное зверье, прости ты меня, господи!..
В казенке, кроме меня, помещался теперь будущий дьякон, а ночевать приходил еще чахоточный мастеровой. Время тянулось с убийственной медленностью, и один день походил как две капли воды на другой. Иногда забредет старик Лупан, посидит, погорюет и уйдет. Савоська тоже ходил невеселый. Одним словом, всем было не по себе, и все были рады поскорее вырваться отсюда.
Под палубой устроилась целая бабья колония, которая сейчас же натащила сюда всякого хламу, несмотря ни на какие причитания Порши. Он даже несколько раз вступал с бабами врукопашную, но те подымали такой крик, что Порше ничего не оставалось, как только ретироваться. Удивительнее всего было то, что, когда мужики голодали и зябли на берегу, бабы жили чуть не роскошно. У них всего было вдоволь относительно харчей. Даже забвенная Маришка – и та жевала какую-то поземину, вероятно свалившуюся к ней прямо с неба.
– И откуда у них что берется? – удивлялся Порша. – Ведь и на берег, почитай, совсем не выходят, а, глядишь, все жуются… Оказия, да и только!..
– Ты на штыки-то смотри, Порша, – советовал Савоська. – Бабы – они, конечно, бабы, а все-таки и за ними глаз да глаз нужен…
– Смотрю, Савостьян Максимыч… Кажинный день поверяю чуть не всю барку. Все ровно в сохранности, как следовает тому быть.
Другое обстоятельство, которое очень беспокоило Поршу, заключалось в том, что из Бубнова, Кравченки и Гришки составился некоторый таинственный триумвират. Их постоянно видели вместе. Будущий дьякон уверял, что несколько раз слышал, как они шептались между собой.
– Уж, наверно, это Исачка какую-нибудь пакость сочиняет, – уверял Порша. – Недаром они шепчутся…
Все дело скоро объяснилось.
Однажды, когда Порша пред рассветом дремал на палубе, что-то булькнуло около барки. Порша бросился на подозрительный звук и увидал, во-первых, Маришку, которая не успела даже спрятаться в люк, во-вторых, доску, которая плыла около барки.
– Ты что тут делаешь? – закричал Порша, бросаясь ловить доску багром.
Маришка ничего не ответила и продолжала стоять на том же месте, как пень. Когда доска была вытащена из воды, оказалось, что снизу к ней была привязана медная штыка. Очевидно, это была работа Маришки: все улики были против нее. Порша поднял такой гвалт, что народ сбежался с берегу, как на пожар.
– Ах ты, паскуда! Ах, шельма! – вопиял Порша, вытаскивая Маришку за волосы на палубу. – Сказывай, кто тебя научил украсть штыку?
Забитая бабенка, оглушенная всем случившимся, только вся вздрагивала и испуганно поводила кругом остановившимися, бессмысленными глазами. Порша дал ей несколько увесистых затрещин, встряхнул за шиворот и, как кошку, бросил на палубу.
– Задувай ее, курву, Порша! – крикнул кто-то из толпы.
Этот нервный крик, требовавший возмездия за попранное право, сразу наэлектризовал Поршу, и он принялся обрабатывать Маришку руками и ногами.
– Ты ее по рылу-то, Порша, по рылу! – поощрял какой-то бурлак с барки Лупана, почесывая руки от нетерпения. – А потом по льну дай раза, суке этакой… Ишь, плеха, не хочет на ногах стоять!
Маришка действительно от каждого удара Порши комком летела с ног, вызывая самый искренний смех собравшейся публики. Это побоище продолжалось с четверть часа, пока не явился заспанный Савоська.
– Что вы тут делаете? – спрашивал он.
– Порша Маришку учит, – обязательно объяснял кто-то.
– Ах вы, дураки… Порша, оставь! Отцепись, деревянный черт, тебе говорят! – кричал Савоська, стараясь оттащить Поршу от Маришки.
– Она штыку украла! – хрипел Порша, выкатывая налитые кровью глаза.
– Дурак!.. Да на что ей штыку? Надо сперва разобрать дело, а ты…
– Я… я… она украла штыку… – повторял Порша. – Запирается…
– А ежели окажется, что не она украла штыку?
Порша на мгновение задумался, потом вдруг бросил на палубу свою шапку и запричитал:
– Нет, я тебе не слуга, Савостьян Максимыч… Ищи другого водолива!.. Я – шабаш, только металл сдать Осипу Иванычу.
Составилось нечто вроде народного суда. Савоська стал допрашивать Маришку, как было дело, но она только утирала рукавом грязного понитка[36] окровавленное избитое лицо с крупным синяком под одним глазом и не могла произнести ни одного слова.
– Кто тебя научил, говори? – допрашивал Савоська.
Молчание. Маришка только на мгновение подымает свои большие, когда-то, вероятно, красивые глаза и с изумлением обводит ими кругом ряд суровых или улыбающихся лиц. На одно мгновение в этих глазах вспыхивает искра сознания, по изможденному, сморщенному лицу пробегает нервная дрожь, и опять Маришка погружается в свое тупое, одеревенелое состояние, точно она застыла.
– Ты ей поддуй раза, Савостьян Максимыч… Заговорит небось.
Голос знакомый. Оборачиваюсь: это говорит чахоточный мастеровой. Лицо у него злое и совсем позеленело, глаза горят лихорадочным возбуждением. Он вытягивает вперед свою тонкую шею и сжимает костлявые кулаки.
– Гришка с Бубновым идут! – послышался шепот.
– Ну, ступай, черт с тобой! – заканчивает свой суд Савоська. – Вот приедет Осип Иваныч, тогда твое дело разберем…
– Хоть бы лычагами постегать, Савостьян Максимыч! – просит чей-то голос. – Чтобы вперед было неповадно…
Бубнов и Гришка подходили к барке как ни в чем не бывало. Толпа почтительно расступилась пред ними, давая дорогу к тому месту, где стояла Маришка. Услужливые языки уже успели сообщить Гришке о подвиге Маришки.
Гришка, не говоря ни слова, так ударил Маришку своим десятипудовым кулаком, что несчастная бабенка покатилась по земле, как выброшенный из окна щенок.
– Наливай ее! – поощрял Бубнов, давая Маришке несколько пинков ногой. – Ишь притворилась… Язва! Валяй ее, зачем воровать не умеет… Под другой глаз наладь ей!
На Маришку посыпался град ударов. Собравшаяся толпа с тупым безучастием смотрела на происходившую сцену, и ни на одном лице не промелькнуло даже тени сострадания. Нечто подобное мне случилось видеть только один раз, когда на улице стая собак грызла больную старую собаку, которая не в состоянии была защищаться.
Когда я обратился к Савоське с просьбой остановить эту бойню, он только пожал плечами.
– За что он ее бьет? – спрашивал я. – Может быть, окажется, что и не она украла штыку…
– Да ведь она жена ему, Гришке-то? – удивился мужик.
– Ну так что из этого, что «жена»?
– Жена – значит, своя рука владыка. Хошь расшиби на мелкие крошки – наше дело сторона… Ежели бы Гришка постороннюю женщину стал этак колышматить, ну, тогда, известно, все заступились бы, а то ведь Маришка ему жена. Ничего, барин, не поделаешь…
Коротко и ясно.
После Гришкиной науки Маришка замертво была стащена куда-то в кусты.
Вечером, когда явился Осип Иваныч, было произведено строжайшее следствие по делу о краже медной штыки Маришкой. Оказалось следующее: вся механика кражи была устроена, конечно, Бубновым, в чем он и сознался, когда улики были все налицо.
– Ну рассказывай, братец, как ты штыку у Порши воровал? – допрашивал Осип Иваныч Исачку.
– Да что тут рассказывать-то; Осип Иваныч, – хвастливо отвечал Бубнов. – Известное дело… Мы с Гришкой да с Кравченком, значит, в уговоре были, а Маришка должна была штыку с барки пущать. Кравченко пущал сверху от берегу доску по реке. Маришка ее ловила, потом привязывала штыку и спущала в воду. А мы, значит, с Гришкой должны были ловить доску и плотик уже наладили, да Маришка, окаянная, подвела.
– Значит. Маришка только вам помогала?
– Выходит, видно, так, – соглашался Бубнов.
– Ну, это дело мировой судья в Перми разберет… А теперь скажите, зачем вы Маришку до полусмерти избили?
– Это не я, а Гришка, Осип Иваныч. Кабы я бил Маришку, так сразу бы ее убил… Ей-богу! Все дело испортила…
Гришку даже не спрашивали, зачем он колотил жену.
– Уж я спустил бы им три шкуры, – ругался Осип Иваныч, – да теперь без них нельзя… Что будете делать? Головорезы!.. Бубнов, шельма, знает, что рабочие до зарезу нужны, и бахвалится. Уж я ему прописал бы, ежели бы Пал Петрович здесь был… я… Ну, да черт с ними! Вы с чем будете чай пить?