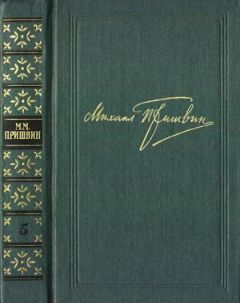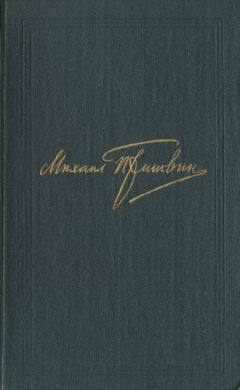Влас Дорошевич - Литераторы и общественные деятели
В театре стоял ураган.
Ураган общественного негодования.
Заблаговременно призванная суворинскими лакеями полиция приступила к «водворению порядка».
Раздались вопли юношей, девушек.
Взрослые люди, мужчины, падали в партере в обморок при виде того, что творилось в ложах.
Тогда старик Мордовцев пошёл за кулисы.
Говорить. Усовещивать суворинских лакеев.
Результат получился, какого надо ждать от разговора с наглыми лакеями.
Мордовцев со слезами умолял их:
— Пожалейте молодёжь. Прекратите ваши безобразия!
Лакеи, спрятавшись за широкие полицейские спины, нагличали и поглумились над плачущим стариком:
— Не ввязывайтесь! Вы кто такой здесь будете? Дело полицейское! Полиция докажет, как скандальничать! Всех скрутим! Проваливайте!
Я увидел в первый раз в жизни Мордовцева, когда он выходил из-за кулис этого учреждения, после разговора с лакеями, сучившими кулаки.
Старик дрожал и весь трясся от рыданий.
По его морщинистым щекам градом текли слёзы.
В эту минуту он напоминал скорее короля Лира.
Поруганного, обиженного, раненого в сердце, бессильного и плачущего старческими, горькими, бессильными слезами.
Лира, над которым надругался дворецкий Гонерилья.
Вопли избиваемой в ложе девушки и слёзы старика.
Такова участь молодости и старости в этой стране.
И с этих пор образ «скорей короля Лира» заслонил в моём воображении образ «Афанасия Ивановича».
И с этих пор при имени Мордовцева мне представлялась не буколическая фигура старика в бекеше из настоящих полтавских смушек, а трагическая фигура рыдающего старика.
Человек слова, он разделял участь всех русских людей:
— Молчать.
Череп русского человека — тюрьма, где томятся, чахнут и умирают его истинные мысли.
Без надежды увидеть свет.
И только у нас возможны такие недоразумения.
Короля Лира считают благодушествующим Афанасием Ивановичем.
Потому что Лир молчит.
Человек живёт среди нас, и мы не знаем его.
Кинул ли он слово ненависти тем, кого он ненавидел всей своей исстрадавшейся старой душой?
Мог ли он кинуть открыто слово привета тем, кого любил и кому в душе посылал своё старческое благословение?
И все мы умираем в одиночестве.
Не подав истинного голоса ни друзьям ни врагам.
Словно отгороженные друг от друга непроницаемыми стенами тюремных казематов.
В одиночном заключении со своими мыслями, со своими чувствами.
Так истосковавшись по свету, по солнцу, по дне, — он умер в самый предрассветный час.
Не вымолвив:
— Ныне отпущаеши…
Как Симеон, не доживший до Сретения.
Самый тяжёлый гроб — гроб русского человека.
Словно свинцом налита его грудь. Она полна невыплаканных слёз.
О Вересаеве
«Wozu denn Lärm?».[22]
Первая фраза Мефистофеля.Доктор Приклонский кончил свой доклад против Вересаева, — и председатель объявил:
— Желающие возражать — благоволят записаться.
Немедленно записалось 16 врачей.
— Объявляю перерыв на 10 минут.
Вероятно, для того, чтобы доктор Приклонский мог проститься с близкими.
Перерыв кончился, г. Приклонский поднялся на подмостки и покорно сел за стол, покрытый сукном цвета крови, — около него за зловещим пюпитром, в декадентском стиле, стал первый возражатель.
— Вам будет так удобно? — спросил его председатель с любезной улыбкой великого инквизитора.
— Покорнейше благодарю! Мне будет так очень удобно! — сказал первый возражатель, со вкусом смотря на доктора Приклонского.
Аудитория затаила дыхание.
И началось.
Мне вспомнилась сцена из «Тараса Бульбы».
На помосте сидел г. Приклонский и около него стоял оппонент.
А перед помостом чернело море голов. И молодой шляхтич в толпе объяснял сидевшей рядом с ним хорошенькой панянке:
— Вот видите, дорогая Юзя, тот, который сидит, это и есть преступник. А тот, что стоит около за декадентским столом, будет его казнить.
— Что же он сделал такое? — кокетливо спрашивала хорошенькая Юзя.
— А сделал он, душенька Юзя, то, что обругал Вересаева. И за это его будут казнить. По переменкам казнить будут, красавица Юзя. Один устанет, другой казнить начнёт. Сначала ему отрубят руки, и он будет очень кричать. Потом ему отрубят ноги, и тогда он тоже будет очень кричать. А, наконец, и совсем отрубят голову. Тогда уж он больше кричать не будет!
И море голов волновалось в ожидании интересного зрелища.
На помост один за другим всходили врачи пожилые, юноши, люди с именами, неизвестные, приезжие, здешние — и рубили доктору Приклонскому руки и ноги.
И при каждом удачном и сильном ударе публика разражалась громом аплодисментов.
Поощряя:
— Ещё его! Bis!
Какой-то молодой человек так разгорячился, что вскочил и протестовал:
— Зачем доктор Приклонский возражает каждому оппоненту в отдельности? Пусть слушает не возражая!
Но доктор Приклонский, который очень кричал, когда ему отрубали руку или ногу, заявил, что он хочет кричать после каждого удара.
И пока шла эта бесконечная экзекуция, мне казалось, что у доктора Приклонского вот-вот вырвется тяжкий вздох и пронесётся с помоста над затихнувшей толпой:
— Батько Гиппократ, слышишь ли ты меня?
Из толпы раздастся голос старого, убелённого сединами практикующего врача, который ответит за Гиппократа:
— Слышу, мой сынку, слышу!
И вздрогнет толпа.
А казнь продолжалась.
Когда доктору Приклонскому отрубили руки и ноги, поднялся г. Ермилов, журналист, с явным намерением «и совсем отрубить голову».
Он размахнулся:
— Вы? Вы критик? Вы доктор? Вы… вы… вы фельетонист!
Простонародье ругается «химиками».
Журналист г. Ермилов ругается «фельетонистом».
По мнению г. Ермилова, вероятно, это должно убивать насмерть.
Но удар попал плохо.
Доктор Приклонский поднялся с полуотрубленной головой и крикнул г. Ермилову:
— Сами вы фельетонист!
А в глазах его читалось:
— Прописал бы я тебе чего-нибудь как следует! Да «карманная книжка для врачей», где таксирована дозировка, не дозволяет!
Два российских интеллигента заспорили о материях важных.
Дошли до ража.
А мимо проходила кошка.
— У-у, проклятущая! — сказал один, потому что был взволнован, и запалил в неё камнем.
— В бок! И в кошку-то попасть не умеешь как следует!
И запалил сам:
— В ногу!
На том спор и кончился.
Высокие вопросы остались неразрешёнными, а ни в чём неповинная кошка оказалась с переломленной ногой.
Этим часто кончаются русские споры о возвышенных предметах.
Изругавши фельетонистами, спорящие разошлись.
Доктор Приклонский с полуотрубленной головой.
Г. Ермилов с недоумевающим видом:
— Думал другому усечь голову, — самому усекли!
Казнь кончилась.
Я сидел во время неё в уголке, и одна фраза не шла у меня из головы.
Первая фраза, с которой обращается к Фаусту Мефистофель:
— К чему весь шум?
На свете всегда были Вагнеры и всегда были Фаусты.
Спокойные и безмятежные Вагнеры и вечные мученики Фаусты.
Вагнеры, довольные собой, своей наукой и судьбой. И беспокойные Фаусты, вечно недовольные, вечно стремящиеся, вечно мучащиеся, вечно живущие между надеждой и отчаянием.
И Мефистофель, дух сомненья, «частицы силы той, которая, стремясь ко злу, творит одно добро», — этот демон с глазами, впалыми и пронизывающими, с исстрадавшимся лицом, с отравленной и отравляющей улыбкой на тонких губах, — является только Фаусту.
У Вагнера Мефистофель удавился бы с тоски.
У Вагнера Мефистофелю делать нечего.
Вагнер говорит:
— Я знаю, что на свете есть болезни. Но на свете есть и «Обиходная рецептура». Всё устроено премудро. Есть страдание, но есть и книги. Я верю в салициловый натр. А другая моя вера — хинин. Когда я приезжаю к больному и вижу симптомы лихорадочного состояния, я даю ему хинина или салицилового натра.
И если Мефистофель посмеет что-нибудь сказать, — Вагнер вынет «карманную книжку для врачей», где в этих случаях показан салициловый натр.
— А достаточно ли ты знаешь? — шепчет Мефистофель
Фауст ищет ответа в собственном сердце, Вагнер в кармане.
Фауст в ужасе хватается за голову:
— Я видел только пятнадцать больных! Это называется учиться?!
Вагнер спокойно развёртывает диплом:
— Вот. Как же не имею права лечить? Посещал клиники исправно, соответственно указаниям профессора. Есть экзамены. Есть государственная комиссия. Если уж государственная комиссия сказала: «можешь лечить!» — как же я не имею права лечить?
И рот сомнению заклеивается казённой печатью. Чтоб не шептало.