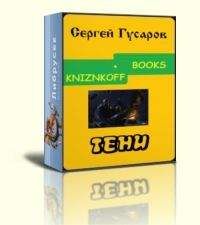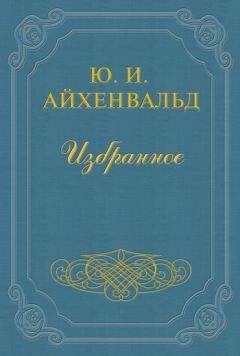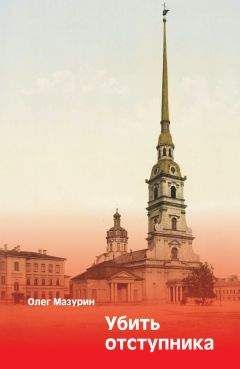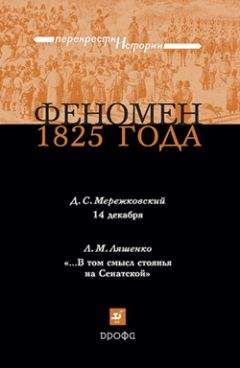Сергей Терпигорев - Потревоженные тени
— На меня все можно выдумать. На другого нельзя, а на меня все можно.
— Да разве это выдумка?
— Конечно, выдумка.
— Ты не подкупала его приносить тебе письма?
— Нет.
— Клавденька!
— Он сам принес и говорит: «Тетя, прочтите, что тут написано?» Ну, я и прочла.
— Да зачем ему-то нужно было это?
— А мне зачем?
— Если это тебя интересовало почему-нибудь, то ты бы лучше сама спросила, тебе бы сказали, но не учила бы ребенка тихонько брать и приносить тебе.
— Я не учила.
— Сам он принес?
— Сам.
И после этого она к попавшему в немилость ребенку моментально делалась такой же холодной и равнодушной, как и ко всем остальным, как была холодна прежде и к нему. Но если он представлялся ей таким, что; когда пройдет гроза и все забудется, — может еще годиться ей наперед в будущем для этих же целей, она мимоходом, когда не видали этого и не замечали, ободряла его, обещала вскоре опять что-нибудь подарить или привезти конфект...
Под конец все уж это знали и береглись ее пуще всего: как, бывало, она приезжала куда, так первою заботою было изолировать от нее детей, для чего строго-настрого наказывалось гувернанткам следить за ними, чтобы она не входила ни в какие сношения с детьми и чтобы они ничего ей не рассказывали. А если придет и начнет сама расспрашивать их, то им велено было, чтобы они ей отвечали, что ничего знать не знают, ведать не ведают.
Но все-таки, при всем этом, все с нею мирились и она всюду ездила, потому что у нее всегда были с собой наготове деньги, которые можно занять.
III
Как было сказано выше, после дяди Василия Васильевича остался сын Андрюша, находившийся теперь на попечении у тети Клёди. Первое время она не нанимала ему гувернантки, и он, разъезжая с нею по родным, учился вместе с их детьми: приедет она с ним к нам — он учится с нами вместо у наших гувернанток; от нас поедет к Емельяновым — учится у них, с их детьми, у их гувернанток, и так целый год. Она это делала, без сомнения, столько же из скупости, сколько, первое, по крайней мере, время, в предположении, что через него, находящегося постоянно в обществе с детьми тех, у кого они гостили, будет разузнавать все и выслеживать.
Так вначале это и было, но потом все, совершенно, конечно, неожиданно для нее, изменилась. Она приезжала обыкновенно с Андрюшей и его нянькой и со своей горничной Марфушей, высокой, худой и сухой девушкой с длинными красными пальцами и крупным рябым лицом, ходившей от своего высокого роста несколько как бы согнувшись. Андрюша вначале, как стал я его помнить, — почти мой ровесник — на год старше меня. — был мальчик очень живой и веселый, но потом, годам к девяти, к десяти, ко времени, к которому относится этот рассказ, он изменился вдруг и затем все более и более делался странный какой-то, задумчивый, нервный и иногда, без всякой видимой причины, грубый и раздражительный.
К этому времени он был, несомненно, развитой мальчик, но развившийся как-то не так, как мы все — его сверстники, а по-взрослому: и занимало и интересовало его больше всего то, что рассказывали и о чем говорили взрослые, а вовсе не мы, с нашими новостями и нашими радостями и планами. К этому же времени и все, опасавшиеся его как тетенькиного шпиона, перестали не только опасаться, но даже полюбили его и думали уж не о том, что он ей донесет что-нибудь, а как бы сгладить его резкое с ней обращение, смягчить его, примирить с ней, если можно так сказать. Тогда у него была уже и гувернантка своя, хотя она все равно продолжала всюду возить его с собою. Он был постоянно в раздраженном состоянии относительно своей тетки. Она это несомненно, разумеется, замечала, но не понимала, что ли, отчего это происходит, или думала, что она это победит в нем, только, при нас по крайней мере, на раздражение его всегда отвечала той же улыбкой и смотрела на него теми же своими все смеющимися глазками. А это его, кажется, еще пуще раздражало. И он, кроткий, вежливый, даже застенчивый и робкий с чужими, с нею бывал дерзок и груб, так что никто бы не поверил, если бы кому рассказывали про это и они сами не видали, не бывали этому свидетелями.
— Она это его сделала таким, — мы слышали, говорили все.
— Конечно, она. Она во всем виновата. Разве он не видит, не понимает всего?
— Он уж ей отплатит за все. Подождите, вот он вырастет, увидите. Ему теперь который год? Девять? Ну вот, погодите еще пять-шесть лет, увидите, что у него за обращение будет с ней.
— Она, она, конечно, во всем виновата. И мальчик очень способный, — ведь это сейчас же видно, — очень развитой, — говорили все, — с ним надо очень умеючи и очень осторожно обращаться. Вы думаете, разве он не видит, не понимает и, ее положения и своего, в которое она его ставит? Все он, конечно, понимает...
Мы всё это слышали, были на его, понятно, стороне, не понимая только тогда, в какое же такое она его положение ставит и чем нехорошо, собственно, ее положение, то есть именно что в нем — в этом ее положении — такого, что бы оправдывало его дерзость к ней и его грубое и всегда враждебное к ней отношение; чем она могла так раздражить, так вооружить его против себя?
Особенно, я помню, меня поражало всегда, когда она что-нибудь говорит, рассказывает о ком-нибудь, вот как я говорил, иносказательно, в назидание кому-нибудь из присутствующих, чем-либо задевших ее или против кого она имела что-нибудь, а он сидит тут же, вместе с нами, и уж нисколько не занятый нами, не интересуясь нами совершенно, слушает ее, глаза-то у него злые-злые тогда, и все это, несомненно, у него против нее, а вовсе не против обидевшего ее или того, про кого она рассказывает. А она видит все это, видит его взгляд и, как ни в чем не бывало, улыбается и на него так же, как и на всех, и так же у нее и на него смеются глаза. А он, сам не свой, побледнеет даже иногда, потом глубоко-глубоко вздохнет и тихо уйдет.
Но так — во всем он ей уступал. Она, например, скажет, чтоб он шел учиться, — он встанет и безропотно, безоговорочно пойдет. Скажет, чтоб он не ходил гулять, — сыро после дождя или так почему-нибудь, — он и не пойдет. Скажет, что завтра надо ехать от нас, и как ему ни хорошо всегда было у нас, он никогда не станет просить ее остаться. Она показывала даже над ним свою власть, оставляя его за что-нибудь без последнего блюда или не пуская гулять, когда все гуляли, заставляла учиться, когда все уж кончили и играли, — он все, это переносил совершенно безропотно, без всяких возражений ей и никогда не оправдываясь перед ней, хотя бы и был совершенно прав, точно он это делал по собственному побуждению, — не она это сделать ему приказывала, а сам он этого захотел и сам так делает. И не было в этом даже желания досадить ей этой своей покорностью: «ты вот, дескать, думала, что я не буду исполнять этого или буду просить прощения, — так вот, нет же, не будет тебе этого, не доставлю этого тебе удовольствия...» Нет, не это совсем было, а что-то выше этого и потому, пожалуй, еще более для нее оскорбительное, какое-то игнорирование ее, почти брезгливое нежелание связываться с ней, объясняться, в уверенности, что все отлично и без этого понимают, что ей не следовало бы так с ним поступать и что все симпатии все-таки на его стороне... Теперь я могу, конечно, гораздо точнее и определеннее выразить и формулировать это, чем тогда, но и тогда мы уже понимали, что это были какие-то особые его к ней отношения, совсем не такие и ничего похожего даже не имеющие с отношениями всех нас к своим родным, и они производили на нас неотразимое и глубокое впечатление. А старшие, потом при нас говоря о них — этих отношениях — и разбирая их, отзывались об Андрюше и с сочувствием и с опасением за него, что она ожесточит его и бог знает что за характер сделается у него. А так вообще со всеми без нее он был, напротив, очень добрый мальчик, отзывчивый, впечатлительный, вдумчивый и жалостливый. Как всегда это бывает с детьми, у которых в характере есть какая-нибудь непонятная, но вместе с тем серьезная черта, к Андрюше мы все, а я в особенности, относились с уважением и, по безмолвному какому-то соглашению, считали его между собою авторитетом. Я был, как это бывает часто у детей, совершенно в зависимости от него, покорен ему, влюблен в него и считал его своим идеалом. Я постоянно советовался с ним, спрашивал во всем его мнения, и как он сказал, я так уже рабски и делал, поступал, как бы я сам пришел к этому своим умом. И он, разумеется, понимал это, но только не показывал и вида.
Но я и теперь, зная уже по опыту, что из условий, самых, казалось бы, невозможных и неблагоприятных, могут вырабатываться, напротив, характеры и необыкновенно честные и прямые, отзывчивые и великодушные, — все-таки понять не могу, как мог при тех условиях выработаться и сложиться этот мальчик?..
И отец, и матушка, и все у нас Андрюшу любили и относились к нему с каким-то особенным вниманием, как, впрочем, и везде, и это вовсе происходило не потому, что он был сирота и племянник родственницы, которой все прощали потому только, что были ей все должны, а за его личные достоинства и за удивительную, грустную, задумчивую симпатичность его. Он был и по наружности тоже очень симпатичен — высокий не по годам, худощавый, необыкновенно сдержанный и весь изящный — в манерах, в голосе, во взгляде больших, серых, задумчивых и умных глаз, которые невольно привлекали к себе. Вот только когда он слушал рассказы и рассуждения о ком-нибудь тети Клёди и злое чувство зарождалось и разгоралось у него во взгляде, он вызывал невольное к себе участливое сострадание, как к больному, хотя и было неприятно видеть и замечать это в нем, все-таки еще совсем ребенке. Это намекало на что-то, что было вне его природы, вне его всего, что еще более заставляло сочувственно относиться к нему и жалеть его. Казалось, это был протест его природы против безобразного и исковерканного характера его тетки, которой он, в силу обстоятельств, был подчинен и все безобразия которой он должен был пока терпеливо переносить...