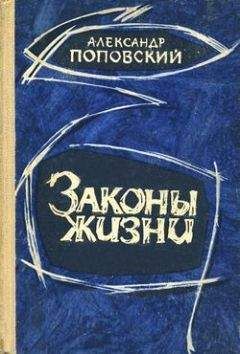Екатерина Мещерская - Змея
Так, слово за слово, Валя с мамой стали убеждать меня, а я слушала их, сидя за столом, и рвала свои письма, которые он мне только что отдал. Слова любви, ссор, примирений, нежности и ласки превращались в моих руках в мелкие обрывки, которые росли передо мной горкой мусора.
Вставало солнце, когда я с сильной головной болью легла и забылась, скованная какой-то полной кошмарами дремотой.
Утром первой моей мыслью было: жив ли Владимир? А вдруг?..
Было воскресенье, и мама велела мне надеть все белое и идти с ней в церковь. Я молча повиновалась. Пока я одевалась, она читала мне долгую нотацию о моем поведении, о том, что я после всего "этого" теперь должна раскаяться, исповедаться, причаститься, начать другую жизнь, а так как священник был нашим знакомым и ее другом, то в душе моей я не сомневалась, что эта исповедь была нужна не столько моей грешной душе, сколько ее материнскому любопытству, так как после исповеди она могла бы спросить у священника, насколько далеко зашли мои отношения с Владимиром...
В это время к нам в дверь вошла Валюшка, в пальто и шляпе, с каким-то необыкновенно злорадным выражением лица.
- Ты уже выходила на улицу, Валя? - удивилась мама.
- Да, специально ходила в автомат, звонила самоубийце. он жив-живехонек-целехонек, сам подошел... ну я, конечно, бросила трубку. Противно слышать голос этого кривляки. И из-за подобного типа ты способна лить слезы?.. Ну и дура! Не давала нам всю ночь спать своими глупыми предчувствиями!
- А ты что? Ты, я вижу, безумно бы хотела, чтобы он покончил с собой? спросила я ее, почувствовав какое-то злое подозрение, шевельнувшееся в моей душе: почему она так ждала его смерти, почему сердилась на то, что он мне дорог и что я хочу, чтобы он жил?.. Но она смотрела на меня ясными, ласковыми глазами.
- Еще и еще раз скажу тебе: ты дура! - уже весело бросила она мне и, махнув безнадежно на меня рукой, вышла.
- Мама, - сказала я, - подождите меня немного, я хочу на минутку видеть Илью Ефремовича.
Мама ничего не ответила, она видела, что я мучаюсь, и не стала мне прекословить или о чем-либо меня расспрашивать.
Быстро поднявшись на верхний этаж, я позвонила в дверь квартиры No 7, которую занимала Е. К. Катульская. Мне открыла ее домработница. Я прошла по коридору и постучалась в последнюю дверь направо.
Увидев меня в такой необычный час, Илья Ефремович был удивлен, обрадован, хотел что-то сказать, но я сама быстро заговорила, торопясь и волнуясь:
- Помогите мне! Я никого не могу просить, кроме вас! Все вокруг ждут... нет, не только ждут, а просто жаждут его смерти! Вы один благородный, гуманный человек, я верю вам, вы должны сделать все, чтобы его спасти. Ради меня! Прошу...
- Говорите, я слушаю. - лицо его было серьезно.
- Дайте карандаш и бумагу, вот телефон его родных на Знаменке. Звоните немедленно, вызовите его мать, просите, умоляйте ее сейчас же пойти туда, к нему, и ни на минуту не оставлять его одного. Что хотите скажите, наконец, не скрывайте, скажите, что вы сами слышали наш с ним разговор, что он решил покончить с собой. Торопитесь!
Илья Ефремович обещал все исполнить и, как мог, успокоил меня.
Я спустилась вниз. Мама уже ждала меня на лестнице.
Обедня была необыкновенно торжественная, длинная, так как служил какой-то архиерей, и я, измученная опасениями и тревогой, сама не знаю каким образом решила обмануть маму: пользуясь теснотой и давкой, не дождавшись окончания службы, пробралась к выходу и, предательски оставив маму, ушла из церкви.
Очутившись на улице, я бежала как безумная - туда, к концу Пречистенского бульвара, к серому знакомому особняку. Но когда оставалось только выйти с бульвара и, спустившись, войти и позвонить у дверей, вдруг силы оставили меня, и я опустилась на скамейку бульвара, жадно вглядываясь в его окно. Прийти после того, что было вчера, после такого прощания? Прийти зачем? А вдруг это игра, вдруг он куда-нибудь собирается в гости? А может, вызванная Ильей Ефремовичем мать уже там, у него? Как глуп будет мой приход, как смешон и неуместен! Ах, Боже мой! Если бы только он хотя бы подошел сейчас к окну, живой и невредимый!..
Сидя там, на Пречистенском бульваре, против его окна, я не знала, что это были последние минуты его жизни, что, может, именно в эти минуты он страстно звал меня, а я сидела тут, рядом, совсем близко! Если б я знала, что в своем волнении я перепутала номера телефонов и дала Илье Ефремовичу телефон не его родителей, а его собственный, из-за чего спутались все мои расчеты...
Просидев полчаса, я взяла себя в руки и пошла домой. Я шла, заранее готовясь к новой маминой нотации и упрекам, но мне было все глубоко безразлично.
Мама действительно была уже дома и начала сейчас же что-то говорить мне. Не слушая, я швырнула куда-то мою шляпу, бросилась на кровать, и в эту же минуту в передней послышались тревожные звонки - один, другой, третий, четвертый... Я как сумасшедшая побежала в переднюю, но дверь уже открыл Алексеев, и все жильцы выскочили из своих комнат. На пороге стоял мужчина. Я сразу узнала его. Это был жилец из квартиры Владимира.
- Здесь живет Екатерина Александровна Мещерская? - задыхаясь, тяжело переводя дух, спрашивал он, вопросительно оглядывая всех. - Вот, Владимир Николаевич Юдин только что застрелился, просил ей передать письмо и немедленно прийти, он велел идти прямо за вами, а потом на Знаменку, за его матерью...
После этих слов все потемнело в моих глазах, ледяной холод пополз по ногам вверх, подступая к сердцу, и я потеряла сознание...
Я пришла в себя на своей постели. В комнате стоял едкий запах эфира, на левой моей руке желтело пятно от йода, по которому я поняла, что мне делали инъекцию камфары. Я поднялась и быстро села, мама тотчас подбежала ко мне. В комнате были еще старушка Грязнова и Валюшка, они тоже подошли к моей постели.
- Что с ним? Он еще жив? Я иду к нему, - сказала я решительно.
- Ты никуда не пойдешь! Никуда! - так же решительно ответила мама, властно откинув меня рукой обратно на подушки. - Его увезли в Пироговскую клинику, может быть, спасут, будут вынимать пулю. Тебе идти некуда!.. Ляг. Доктор запретил тебе вставать. Неужели из-за какого-то сумасшедшего ты допустишь, чтобы тебя перекосил какой-нибудь нервный паралич? Если так, то тебе лучше было выходить за него замуж!..
Я легла. При каждом движении боль в сердце усиливалась и тошнота подступала к горлу. Через час из Пироговской больницы приехала сестра с запиской от Елизаветы Дмитриевны. Она писала о том, что только что была срочная операция и пулю вынули, но ее сын безнадежен. Он в полном сознании, просит меня прийти к нему проститься. Она присоединяется к его просьбе.
Моя мать объявила о том, что не пустит меня. Я сказала ей, что повешусь. Тогда она испугалась и согласилась.
Подъезжая к больнице, я увидела около ее подъезда много народа. Это были его поклонницы, среди них я сразу узнала стройную фигуру Веры Головиной.
Мамины глаза холодно и строго остановились на мне.
- Ты поняла, что он умер? - сказала она. - Там теперь лежит не живой человек, а труп. Его мать в слезах отчаяния - около него, ее сына, убитого как ей, безусловно, кажется - нами. Как ты войдешь туда? Как? Зачем? На ее суд? Наконец, ты видишь толпу этих истеричек? Тебя еще, чего доброго, какая-нибудь из них обольет кислотой из мести... Да и вообще это будет неприличная сцена! Ты должна пощадить меня, твою мать!..
Она велела нашему извозчику повернуть и везти нас обратно на Поварскую. Еще долго она говорила что-то о покойном князе, который от ужаса и стыда за меня, свою дочь, переворачивается в своем гробу...
Его отпевали в церкви Бориса и Глеба на Арбатской площади и похоронили в Донском монастыре.
Я не была на похоронах и не простилась с ним. Конечно, в маминых словах была доля правды. Он был певец. В Москве его знали. Эта история наделала шуму. Мое появление было бы, как мне казалось, неуместным и нетактичным, а его мертвому телу это было не нужно. Я около его гроба была бы только зрелищем для любопытных глаз и злых языков.
- А вот теперь я на твоем месте обязательно пошла бы в церковь, объявила Валя. - Я завидую тебе! Это шикарно: такой певец из-за тебя застрелился! Кому это может быть не лестно!
- Ты глупости говоришь, Валя. Я не пошла по многим причинам, и первая из них та, что это уже непоправимо. Я не воскрешу его. Он был так талантлив... Пусть его не осуждают и не смеются над ним за его выбор. Пусть думают, что та, которую он любил, была прелестна...
Вот подлинники его писем и записок, переданные нам в день, когда он застрелился, 14-го августа, в воскресенье.
"Екатерина Прокофьевна, прощайте. Знаю, Вы рады будете моей смерти. Я любил Вашу дочь больше всего на свете. Вы отняли ее у меня. Жить больше не для чего. Храните ее и не толкайте на мерзости. Клянусь Вам, если Вы обидите ее, я жестоко отомщу Вам с того света. Умираю, благословляя Котика. Не обижайте мою милую, хорошую девочку.