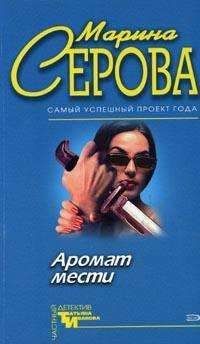Болеслав Маркевич - Марина из Алого Рога
Первый рѣшился заговорить Пужбольскій. — Одного недостаетъ только — встрѣтить намъ вотъ за тѣмъ заворотомъ спящаго Лоэнгрина, влекомаго своимъ лебедемъ!… Вотъ за что можно любить кару-патрію! съ внезапнымъ взрывомъ восторга воскликнулъ онъ:- это за такіе невѣдомые уголки, гдѣ еще и человѣкомъ не пахнетъ! Вѣдь это настоящая рамка для легенды, для волшебной сказки!…
— А вотъ къ церковищу подъѣдемъ, сказала Марина, — тамъ говоритъ народъ…
— Ну, это я напередъ скажу вамъ, что, живо прервалъ онъ ее, — провалилась "скрозь" землю церковь, а на томъ мѣстѣ вода выступила, и подъ водою колокола слышны… Въ Россіи повсемѣстно наткнетесь вы на этотъ сказъ… Нѣтъ, тутъ русалки должны быть непремѣнно!… Вѣдь есть здѣсь русалки, не правда-ли — есть? приставалъ къ дѣвушкѣ Пужбольскій.
— Спросите Тулумбаса! засмѣялась она въ отвѣтъ.
— Что же вы мнѣ про русалокъ разскажете, господинъ Тулумбасъ? тотчасъ же и обратился къ нему князь.
— А то-жь какія русалки будутъ? спросилъ тотъ, приподнимая весла и откидывая головой на затылокъ свою поярковую шляпу.
— Майки, мавки! пояснилъ ему графъ, припоминая мѣстное наименованіе….
— А, то вы про мабки! И Тулубмасъ расхохотался во весь ротъ. — А брешутъ что-съ про нихъ бабы… Такъ буду я ихъ слухать! презрительно дернулъ онъ плечомъ.
— Тоже прогрессистъ! съ негодованіемъ проговорилъ князь, поворачивая ему спину.
— Пужбольскій, — тѣшась его разгнѣваннымъ видомъ, поддразнивалъ его графъ:- а вѣдь повѣрье про русалокъ, и самое даже слово…
— Русло, русло, вотъ прямой корень, c'est incontestable! не далъ ему кончить Пужбольскій, — но я знаю, что ты хочешь сказать, — c'est même assez ingénieux du reste de le faire dériver de là,- будто миѳъ о русалкахъ и самое имя — не что иное, какъ проникшее къ намъ изъ Италіи и искаженное преданіе о святой Розаліи, и главное доказательство лежитъ будто въ томъ, что у насъ "русальный день" совпадаетъ съ днемъ, когда на Западѣ чествоваютъ эту святую…
— Это та, перебила, въ свою очередь, Марина, — которая одѣвалась въ собственные свои волосы?
— Та самая.
— И которую какой-то левъ схоронилъ?
— Нѣтъ, нѣтъ, вы смѣшали! Эта Розалія, la patronne de Palerme, nne sainte immaculée… Но та, про которую вы говорите, знаменитая Марія Египетская, la magna peccatrix de l'épilogue de Faus!…
— И ты спуталъ, замѣтилъ ему графъ, — въ эпилогѣ Фауста ихъ двѣ: одна Maria Aegyptiaca, а другая — Magna peccatrix, великая грѣшница, подъ которою разумѣется Марія Магдалина… И какіе божественные стихи влагаетъ имъ въ уста Гете!…
Глаза его мгновенно оживились, что-то умиленное и сладостное промелькнуло въ нихъ, показалось Маринѣ.
— А чѣмъ же знаменита эта Марія Египетская? робко, стыдясь, что она этого не знаетъ, спросила она.
Завалевскій взглянулъ на нее, тихо улыбнулся, опустилъ голову и заговорилъ съ какою-то необычною ему, безсознательною торжественностью:
— Славилась она красотою своею и нечестною жизнью по всему востоку; покланялись ей какъ царицѣ; ѣздила она по средиземнымъ волнамъ, какъ нѣкогда Клеопатра, въ золотой триремѣ, подъ пурпуровыми парусами; сводила съ ума и разоряла всю молодежь Сиріи и Египта… И вотъ однажды узнаетъ она, что въ Іерусалимѣ готовится неслыханное торжество, неслыханный праздникъ. Въ храмѣ надъ гробомъ Господнимъ воздвигается отысканный царемъ Константиномъ, царицей Еленой честный крестъ Христа Спасителя… Несмѣтными толпами, изо всѣхъ окружныхъ странъ, стремится народъ поклониться тому кресту… И она, красавица, и она за народомъ… И три раза пыталась она войти во храмъ, и три раза невидимая и непреоборимая сила отталкивала ее назадъ!… Съ той минуты никто уже не видалъ ее въ этомъ мірѣ; какъ была она, въ пышной и нескромной одеждѣ своей, такъ и ушла съ порога недоступнаго ей храма — въ пустыню, въ Ливійскую степь… Сорокъ лѣтъ прожила она тамъ одна. Житіе ея говоритъ, что подъ конецъ жизни она сдѣлалась вся прозрачная, насквозь тѣла ея было видно… Умирая, она начертала имя свое на пескѣ пустыни. По этой надписи узналъ ея бренные останки святой отшельникъ Зосима, про ходившій по степи со львомъ, который повсюду сопутствовалъ ему… Онъ совершилъ надъ нею отпѣваніе, — а левъ вырылъ когтями для нея могилу и зарылъ подъ пескомъ…
Жадно слушала Марина; какимъ-то благоговѣйнымъ трепетомъ отзывалось въ чуткой душѣ отъ этой суровой поэзіи первыхъ христіанскихъ вѣковъ…
Она отвернулась; она почувствовала, какъ подъ рѣсницами ея задрожали нежданныя слезы…
— Счастливыя, какъ онѣ вѣрили! словно вырвалось у нея съ самаго дна души. — А теперь — что осталось? медленно, про себя, домолвила она…
Пріятели невольно переглянулись… Оба они повторили внутренно восклицаніе дѣвушки: "а теперь — что осталось?"…
— Ишь закуковала! раздался въ эту минуту дурацкій смѣхъ Тулумбаса.
— Кукушка! какъ-то насильственно встрепенулась Марина… А погодите! никакъ соловей заурчалъ… пробуетъ…
— Къ вечеру дѣло, во всю глотку зачнетъ заразъ! счелъ нужнымъ пояснить гребецъ, снова приподымая свои весла.
Пужбольскій со злостью взглянулъ на него: онъ возненавидѣлъ Тулумбаса за его презрѣніе въ майкамъ.
— А я вотъ совсѣмъ и забыла! воскликнула вдругъ Марина, — у насъ есть здѣсь своя, аларожская сказка!…
— Какая, какая? взвизгнулъ тотчасъ же Пужбольскій.
— Отчего кукушка такъ жалобно кукуетъ, не знаете?
— Не знаемъ.
— Такъ вотъ я вамъ разскажу. Отъ одной старушки здѣшней, — покойница она теперь, — слышала я эту сказку. Когда это было, покрыто мракомъ неизвѣстности, — начала Марина съ напускною насмѣшливостью, исчезавшею по мѣрѣ того, какъ подвигался впередъ ея разсказъ, — а только знаю, что ранѣе было это даже тѣхъ гетмановъ, отъ которыхъ ведутъ родъ свой знаменитые Самойленки… И было тутъ, надъ самымъ Алымъ-Рогомъ, большое село, а въ томъ селѣ, какъ водится, и парней вдосталь, и дѣвчатъ не мало… И вотъ въ одинъ жаркій воскресный день собрались тѣ дѣвчата купаться. Пришли въ рѣкѣ, вотъ на тотъ, можетъ, самый бережокъ, гдѣ, видите, желтаго пѣвника такъ много въ очеретѣ; пришли, скинули кофты да платки съ головы и сѣли на травку-муравку, ждутъ, пока остынутъ… Сѣли и — бесѣду мудрую промежъ себя повели. А бесѣда мудрая въ томъ состояла, что какая дѣвчина какого парня любитъ, да какой парень изъ себя пригожѣе, и тому подобная чепуха… Только сидитъ одна, молчитъ, ничего не говоритъ… А была это сиротинка одна, Фросей звали, ни отца, ни матери, бѣдная, только изъ себя — заглядѣнье дѣвушка!..
— Какъ ты! чуть не вырвалось у Пужбольскаго, пожиравшаго глазами разсказчицу.
— Видная, бѣлолицая, а глаза синіе, что соколій перелетъ, — цвѣтокъ есть здѣсь такой, пояснила Марина. — Сидитъ, губъ не раскрываетъ… А тѣ къ ней пристали: а у тебя, Фросиня, чи есть, чи нѣту милъ-сердечный другъ, да кто онъ, да гдѣ, да смазливъ-ли; да богатъ-ли? — Гдѣ мнѣ бѣдной, говоритъ она на это, — хорошаго да богатаго! мнѣ, говоритъ, — ужъ — такъ и тотъ мужъ!…
— Отъ-то глупая! отозвался на это съ носа увлеченный разсказомъ Тулумбасъ.
— Многоуважаемый гражданинъ, вскинулся на него немедля князь Пужбольскій, — вы бы больше занимались внутреннею рефлексіею, чѣмъ внѣшнимъ выраженіемъ вашего міровоззрѣнія!
— Не такая глупая, какъ вы думаете, Тулумбасъ, расхохотавшись утѣшала его Марина. — Не успѣла сказать это Фрося, какъ подруги ея, сколько ни было ихъ тутъ, вдругъ всѣ въ голосъ въ одинъ: ахъ, ужъ, ужъ! и давай Богъ ноги… Глядитъ она, озирается… А на ея платкѣ, что положила она на траву, клубкомъ свернувшись, лежитъ большущій черный ужъ!.. Ахнула и она!.. А онъ съ платка оземь хвостомъ ударился, перевернулся въ распрекраснаго молодца-красавца, стоитъ предъ ней, золота шапочка на кудряхъ волнистыхъ, полымемъ глаза горятъ, изъ устъ рѣчи медовыя льются…
— Въ тонѣ, молодая особа, хорошо, вѣрно! одобрялъ ее Завалевскій, покачивая своею кудрявою, сѣдою головой и чувствуя опять внутри себя приливъ чего-то, давно имъ не испытаннаго, молодаго, счастливаго.
А лицо Марины подъ золотистою кожей разгоралось все замѣтнѣе: отъ свѣжаго воздуха, отъ движенія руки на рулѣ. отъ этого одобренія, быть можетъ.
— И льются медовыя рѣчи? подгонялъ тѣмъ временемъ разсказъ князь Пужбольскій.
— И говоритъ онъ ей: право-ли слово твое, что за ужа готова ты замужъ пойти? Она и сказать что не знаетъ, глядитъ только на него да думаетъ: отколѣ взялся красавецъ да умница такой? А онъ будто отгадавши: я не ужъ простой, говоритъ, а царь вольнаго воднаго царства, и царство мое тутъ близехонько, въ омутѣ глубокомъ, на пескѣ золотомъ. И увидалъ онъ по глазамъ у нея, что согласна она идти за него… Ухватилъ онъ ее сильною рукой, и погрузились они оба въ то его глубокое водное царство.