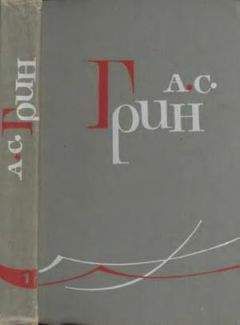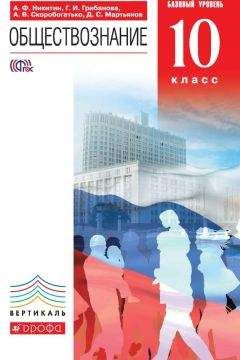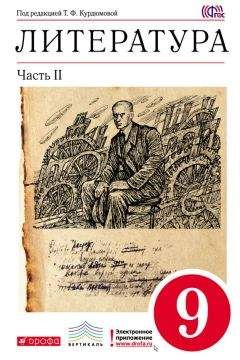Александр Грин - Том 1. Рассказы 1906-1910
На крыльце – быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.
– От товарища прокурора… Письма политическим…
Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчеркивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе – небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.
– Вот-с! – торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. – Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамсону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..
– Что-то невдомек мне, – лениво зевает надзиратель, шевеля усами: – что он писал у в прошедший раз?..
– Что писал! – громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. – А то писал, что ты, так сказать – более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией… И потому, говорит, более от меня писем не жди…
– Что ж, – меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу. – Когда этакое супротивление со стороны своего дитя… Забыв бога, к примеру, царя…
– Иван Павлыч! – радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. – От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..
– Значит – на прогулку сегодня не пойдет, – щурится Иван Павлыч. – Он этак всегда. Я в глазок[2] сматривал. Долго письма читает…
Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке – заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.
– В глазок сматривал, – продолжает Иван Павлыч и щурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная бородка. – Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали… Свернет это мелконько в трубочку – да и в сапог… Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает… А я тут ключами – трах!.. – «На прогулку!» – «Я, говорит, сегодня не пойду»… – «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» – Раскричится, дрожит… Сме-ехи!..
– «Ми-лый… м… мой. Пе… тя…» – торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение. – Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и…
Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.
– Мама-то с усами была! Знаем мы! – говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.
– …бу-ду-те-бя-жда-ать… те-бя-сош-лют-в-Сибирь… Там-уви-дим-ся… При-е-хать-же-мне, сам знаешь, – нель-зя…
– Врет! – категорически решает Иван Павлыч. – Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан… Я карточку ейную видел в Козловского камере… Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пущает, чтобы не тревожил письмами…
– Само собой! – кивает писарь. – Я вот тоже думаю: у них это там – идеи, фантазии всякие… А о кроватке-то, поди – нет, нет – да и вспомнят!..
– Что барская кость, – говорит внушительно Иван Павлыч, – что мещанская кость, – что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует…
– Жди его! – негодующе восклицает писарь. – Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а… тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..
– Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело… Бе-е-ды!..
– Вот! – писарь подымает палец. – Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»… Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..
– Хе-хе-хе!..
– Какая панорама! – говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. – Разные виды!..
– Тьфу!.. – Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. – Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают… А ты за них отвечай, тревожься… Па-а-литика!..
Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:
– А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать… Супротивнее всех… Позавчера: «Кончайте прогулку», – говорю, время уж загонять было. – «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» – Крик, шум поднял… Начальник выбежал… А что, – меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, – ждет письма-то?
Писарь подымает брови.
– Не ждет, а сохнет! – веско говорит он. – Каждый день шляется в контору – нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору…
– Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что… разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения…
Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.
– Чего ж? – роняет он, наконец, небрежно, но решительно. – Мо-ожно… Картинку себе возьму…
В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.
Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.
Губы его шепчут:
– Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..
Любимый*
Яков, или Жак, как мы звали его, пришел ко мне веселый, шумно распахнул дверь, со стуком поставил трость, игриво отбросил шляпу, энергично взмахнул пышной, каштановой шевелюрой, улыбнулся, жизнерадостно засмеялся, вздохнул, сел на стул и сказал:
– Поздравь!
– Поздравляю! – с любопытством ответил я. – Что? Выиграл?
– Хуже!
– Дядя умер?
– Хуже!
– Тогда не знаю. Расскажи.
– Женюсь! – выпалил он и расхохотался. – Влюблен и женюсь! Вот тебе!..
Я развел руками и пристально посмотрел в его лицо. Жак, мой приятель Жак, завсегдатай увеселительных мест, театров и кафе, был трезв, глядел на меня ясными, голубыми глазами и вовсе не обнаруживал стремления закричать петухом. В таких случаях принято говорить: «рад за тебя, дружище», или – «ну, что же, дай бог». Я предпочел первое и сказал:
– Очень радуюсь за тебя.
– Еще бы ты не радовался, – самоуверенно заявил он, переворачивая стул и усаживаясь на него верхом. – Ты должен – слышишь? – ты обязан с ней познакомиться… Она – чудо: ангел, добрая, милая, хорошенькая, – прелесть, а не женщина! Восторг, а не человек!..
– Хм!..
– Да! Но сознаешь ли ты, почему я выхожу за… то есть почему я женюсь? Я смертельно ее люблю! Я обожаю ее… ах, Вася!.. Ну, ты увидишь, увидишь!..
В его захлебывающихся словах звучало искреннее чувство, а глаза сделались влажными, и от этого в моей душе, душе старого холостяка, что-то заныло. Не то грусть, не то зависть; может быть, также сожаление о Жаке, терявшем с этого дня для меня свою ценность, как непоседы и собутыльника. Вздохнув, я побарабанил пальцами и спросил:
– Как же это так скоро? Ведь еще на прошлой неделе мы ночевали у этой очарова…
– Ах, да молчи! – Жак зажмурился и сжал губы. – Пожалуйста, не вспоминай… Я стараюсь не думать больше о… о… этом… Нет, решено: я люблю и буду порядочным человеком!
– Да?! – сказал я. – Я в восторге от тебя, Жак. Но расскажи же, как, что?.. Все это так неожиданно.
Жак воодушевился и в пылких, бессвязных словах изложил мне историю своей любви. На прошлой неделе у знакомых он встретился с удивительным и т. д. существом, остолбенел с первого взгляда, стал ухаживать при лунном свете, говорить о сродстве душ, вздыхать, таять, забывать есть, словом, проделывать все то, что принято в таких случаях. А через пять дней упал на колени, рыдая, целовал ее ноги и получил согласие.
«Что же? – размышлял я, – Жак не очень глуп, красив, богат, с добрым сердцем… Дай ему бог».
– Она, – рассказывал Жак, – дочь состоятельного чиновника, кончила гимназию, а теперь мечтает поступить в консерваторию. Ведь это хорошо – в консерваторию? – вспотев и блаженно улыбаясь, спрашивал он меня. – В консерваторию! Ты подумай… Поедет в Петербург, слава, овации, ну… Одним словом!
– Хм!
– Ты увидишь, Вася!.. Ах, слушай, ну, ей-богу же, это удиви… это ангел… Вася, милый!..
– Милый Жак, – грустно сказал я. – Я… растроган… я… будь счастлив… будь…
Нервы Жака не выдержали. Он вскочил со стула, опрокинул курительный столик, бросился мне на шею и выпустил лишь минут через пять, оглушенного и полузадушенного. На щеке моей еще горели следы его поцелуев, слез, а жилет и усы запахли бриллиантином. Я отдышался, пришелся в себя и вытер лицо платком.
– Бегу! – Жак стремительно сорвался и затрепетал. – Бегу к ней… опоздаю… Ну… – он схватил мою руку и стал калечить ее… – Ну… ты понимаешь… я не могу… я… прощай!