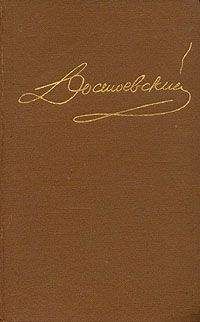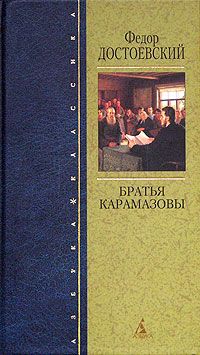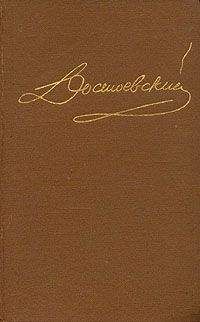Федор Достоевский - Том 9. Братья Карамазовы
— Это еще что за сон? Ах вы… дворяне!
— Эх, Миша, душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить.
— Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эк ведь Иван вам загадку задал! — с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекосились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами — поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, всё позволено». (А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул: «Запомню!») Соблазнительная теория подлецам… Я ругаюсь, это глупо… не подлецам, а школьным фанфаронам с «неразрешимою глубиной мыслей». Хвастунишка, а суть-то вся: «С одной стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться!» Вся его теория — подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет*…
Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя. Но вдруг, как бы вспомнив что-то, остановился.
— Ну довольно, — еще кривее улыбнулся он, чем прежде. — Чего ты смеешься? Думаешь, что я пошляк?
— Нет, я и не думал думать, что ты пошляк. Ты умен, но… оставь, это я сдуру усмехнулся. Я понимаю, что ты можешь разгорячиться, Миша. По твоему увлечению я догадался, что ты сам неравнодушен к Катерине Иванов не, я, брат, это давно подозревал, а потому и не любишь брата Ивана. Ты к нему ревнуешь?
— И к ее денежкам тоже ревную? Прибавляй, что ли?
— Нет, я ничего о деньгах не прибавлю, я не стану тебя обижать.
— Верю, потому что ты сказал, но черт вас возьми опять-таки с твоим братом Иваном! Не поймете вы никто, что его и без Катерины Ивановны можно весьма не любить. И за что я его стану любить, черт возьми! Ведь удостоивает же он меня сам ругать. Почему же я его не имею права ругать?
— Я никогда не слыхал, чтоб он хоть что-нибудь сказал о тебе, хорошего или дурного; он совсем о тебе не говорит.
— А я так слышал, что третьего дня у Катерины Ивановы он отделывал меня на чем свет стоит — вот до чего интересовался вашим покорным слугой. И кто, брат, кого после этого ревнует — не знаю! Изволил выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики*, буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть, в сущности, держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге*, с тем чтобы перевесть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую*…
— Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть всё и сбудется, до последнего даже слова! — вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь.
— И вы в сарказмы пускаетесь, Алексей Федорович.
— Нет, нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако: кто бы тебе мог такие подробности сообщить, и от кого бы ты мог о них слышать. Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил?
— Меня не было, зато был Дмитрий Федорович, и я слышал это своими ушами от Дмитрия же Федоровича, то есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал, разумеется поневоле, потому что у Грушеньки в ее спальне сидел и выйти не мог всё время, пока Дмитрий Федорович в следующей комнате находился.
— Ах да, я и забыл, ведь она тебе родственница…
— Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? — вскричал вдруг Ракитин, весь покраснев. — Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке.
— А что? Разве не родственница? Я так слышал…
— Где ты мог это слышать? Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите, тогда как отец твой бегал шутом по чужим столам да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами, дворянами, но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович. Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с!
Ракитин был в сильном раздражении.
— Извини меня ради бога, я никак не мог предполагать, и притом какая она публичная? Разве она… такая? — покраснел вдруг Алеша. — Повторяю тебе, я так слышал, что родственница. Ты к ней часто ходишь и сам мне говорил, что ты с нею связей любви не имеешь… Вот я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь! Да неужели она достойна того?
— Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины, ну и довольно с тебя. А насчет родства, так скорей твой братец али даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне, в родню. Ну вот и дошли. Ступай-ка на кухню лучше. Ай! что тут такое, что это? Аль опоздали? Да не могли же они так скоро отобедать? Аль тут опять что Карамазовы напрокудили? Наверно так. Вот и батюшка твой, и Иван Федорович за ним. Это они от игумена вырвались. Вот отец Исидор с крыльца кричит им что-то вослед. Да и батюшка твой кричит и руками махает, верно бранится. Ба, да вон и Миусов в коляске уехал, видишь едет. Вот и Максимов-помещик бежит — да тут скандал; значит, не было обеда! Уж не прибили ли они игумена? Али их, пожалуй, прибили? Вот бы стоило!..
Ракитин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Всё произошло «по вдохновению».
VIII СкандалКогда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. «По крайней мере монахи-то уж тут не виноваты ни в чем, — решил он вдруг на крыльце игумена, — а если и тут порядочный народ (этот отец Николай игумен тоже, кажется, из дворян), то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым?.. Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и… и…. наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому шуту, этому пьеро и попался впросак точно так же, как и они все…»
Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы (где всё это — он и сам не знал) он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более что всё это очень немногого стоило, и все свои иски против монастыря прекратить.
Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того, впрочем, не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом: мебель была кожаная, красного дерева, старой моды двадцатых годов; даже полы были некрашеные; зато всё блистало чистотой, на окнах было много дорогих цветов; но главную роскошь в эту минуту, естественно, составлял роскошно сервированный стол, хотя, впрочем, и тут говоря относительно: скатерть была чистая, посуда блестящая; превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околотке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед приготовлен был на этот раз из пяти блюд: была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой; затем разварная рыба, как-то отменно и особенно приготовленная; затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот и, наконец, киселек вроде бланманже*. Всё это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которою тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем самомнении. Он знал наверно, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не сознает того сам, напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут уж не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать.