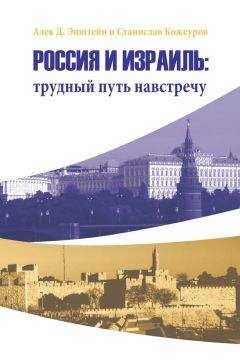Всеволод Соловьев - Жених невесты
Королевич бешено поднялся с лавки, на которой лежал. Еще две-три минуты, и, может быть, он убил бы Марселиса, такое в нем клокотало бешенство, такое душило отчаяние.
IV
Когда Марселис, бледный и трепещущий, пробирался к выходу, его остановил один из молодых людей, приближенных к королевичу, по имени Генрих Кранен, и увел его в сад.
– Слышали ли вы, какое несчастье у нас вчера случилось? – спросил он.
– Да как же, знаю, знаю! – ответил Марселис. – Принц во всем меня винит, а я тут при чем? Видит Бог, хотел все к общему удовольствию устроить, только и думал о том, как бы исполнить желание его королевского величества, как бы способствовать счастливой жизни принца. Я сам теперь почитаю себя несчастнейшим в мире человеком и придумать не могу, как выйти из этих прискорбных обстоятельств…
– Да нет, – перебил его молодой человек, – видно, не знаете вы беды нашей! Как вы застали принца? Протянул он вам руку?
– Нет, – вздохнул Марселис, – он не. считает меня достойным этой чести.
– Да кабы и считал достойным, а руки все же бы не протянул, сильно болит она у него.
– А почему?
Марселис еще не понимал, в чем дело, но уже почуял недоброе.
– А потому, – продолжал молодой датчанин, – что ведь вчера утром принц чуть было не убежал.
– Как? – воскликнул Марселис, весь холодея от ужаса.
– А так, что принц наш потерял всякое терпение, да к тому же и опасность велика. Он и решил… И был у Тверских ворот… Знали про это дело только я да его камер-юнкер, а послы про то не знали. Принц взял с собою свои драгоценности и изрядную сумму денег… В Тверские ворота их не пропустили. Хотели они оттуда воротиться назад с тем, чтобы попытаться выехать в другие ворота, но стрельцы принца и камер-юнкера поймали, у принца вырвали шпагу, били его палками и держали лошадь за узду. Тогда принц вынул нож из кармана, узду отрезал и от стрельцов ускакал, потому что лошадь под ним была ученая, его любимая лошадь: она слушается его и без узды.
– Господи! Хоть бы про то не проведали московиты! – воскликнул Марселис.
– Слушайте, что было дальше. Вернулся принц и рассказал мне все как было, что план его не удался, а камер-юнкера стрельцы увели, но что он ни за что не хочет его выдавать. Затем принц схватил шпагу, взял с собою десять человек скороходов, выбежал с ними со двора и, увидав, что стрельцы ведут камер-юнкера, бросился на них, убил того стрельца, который вел пленника, и, выручив его, возвратился домой.
Марселис закрыл лицо руками.
– Боже мой! Боже мой! – говорил он. – Этого я уж никак не ожидал! Ведь если бы побег принцу удался, я был бы в ответе! Конечно, меня стали бы подозревать, что я знал о побеге, и не миновать мне казни!
Марселис не ушел, а просил молодого человека пойти к Вольдемару и, когда тот будет поспокойнее; спросить, не примет ли он его, Марселиса?
– Уж лучше бы его не раздражали, – отсоветовал ему Генрих Кранен. – Раз он считает вас во всем виноватым, о чем же тут говорить?
Но Марселис ответил:
– Пусть он на меня гневается сколько хочет, пусть даже побьет меня, а я желаю ему добра и, по моей прямой верноподданнической службе, должен всеми мерами отговорить его от повторения такого поступка. Бога ради, убедите его принять меня.
Марселис, ожидая возвращения Кранена, стал бродить по саду. Ждать ему, однако, пришлось недолго.
Молодой человек возвратился и сказал, что принц согласен принять его, только изумляется, что ему еще может быть от него нужно?
Марселис поспешил к Вольдемару.
Припадок бешенства уже прошел, оставалось отчаяние и сознание своего бессилия.
Вольдемар лежал на лавке, покрытый мягкими стегаными тюфячками и обложенный пуховыми подушками. Здоровою рукою он подпирал себе голову. Красивое лицо его было бледно, глаза померкли… При входе Марселиса он встретил его усталым, равнодушным взглядом и тихо произнес:
– Чего тебе еще от меня надо? Что доброго можешь сказать мне?
– Принц, – начал Марселис мягким голосом, – простите меня и не гневайтесь, Бога ради! Клянусь, я несчастлив, но не преступен перед вами. И теперь помышляю я только об одном, как бы вы себе не повредили…
– Я навсегда и бесповоротно повредил себе в ту минуту, как склонился на твои лживые уверения, – сказал Вольдемар, отвертываясь от Марселиса.
Но тот не стал обижаться. Об обиде ли теперь было думать!
– Я все знаю, – сказал он, – знаю, что вы убили стрельца, принц…
– Ну так и знай! Я этого не скрываю и ни от кого скрывать не буду. Сам скажу об этом царю и боярам.
– Ах, не делайте этого, ваша милость! – воскликнул Марселис. – Ведь, может быть, стрельцы вас не узнали, а если вас и назовут, я стану уверять, что это ошибка, что вас не было…
– Не советую делать этого! – усмехнулся Вольдемар. – Я объявлю, что ты лжец.
– Ах, зачем вы не сказали мне, принц, что собираетесь бежать из Москвы?
– Нечего сказать, очень был бы я умен, если бы об этом деле рассказал тебе или кому другому, кроме тех, кого с собою брал!
– Что подумает царь, если узнает про то, что вы сделали! – вздохнул Марселис. – Нет, умоляю вас, пожалейте себя, никому об этом не говорите!
– Вот еще! – воскликнул Вольдемар, порывисто вставая с лавки, но от боли снова на нее опускаясь. – Ведь я уж приказывал Шереметеву передать от меня царю, что хочу это сделать и кто меня станет держать и не пропускать, того я убью. И впредь я буду о том думать, как бы из Москвы уйти, а если мне это не удастся, то… я знаю, что я тогда сделаю!..
Королевич проговорил эти слова таким мрачным и загадочным тоном, что Марселис вздрогнул.
«Боже мой! – подумал он. – Да ведь он хочет что-нибудь над собою сделать, только это и могут означать его слова. Да и как в таких бедах, в таком положении не остановиться на мысли о самоубийстве? Но ведь нельзя же допустить такое несчастье, надо действовать…»
Видя, что королевич не хочет с ним больше разговаривать, Марселис откланялся, ушел и, возвращаясь к себе, все думал, как ему поступить теперь? Наконец он решил, что о таком деле необходимо дать знать царю, чтобы потом не быть в ответе.
V
Между тем Вольдемар как сказал Марселису, что не станет ни от кого скрывать свой поступок, так и сделал. Явился к нему князь Сицкий, и он ему прямо рассказал, как было дело, и просил при этом передать все царю.
Царь при докладе Сицкого тотчас же приказал ему идти обратно во двор королевича и сказать послам от его имени, что и простым людям такого дела делать не годится и слышать про него непригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно и королю Христианусу такое дело не честно.
Пассбирг и Биллей ответили Сицкому для передачи царю:
– У нас с принцем было условлено ехать из Москвы всем вместе, явно и днем. Мы не пленники, и держать нас силой не за что, в действиях же наших отдадим отчет нашему государю, если же королевич поехал один, нам не сказавшись и тайком, то нам до этого дела нет, у него своя воля.
«Эх, – подумал Сицкий, – покажем мы ему эту волю! Волей-неволей, а сделает он по-нашему…»
После этого Вольдемар послал царю новую грамоту; в ней опять он просил об отпуске, клялся, что никогда не переменит своей веры и что потому жить ему в Москве больше незачем.
Царь отвечал ему в жалобном тоне, выговаривая, что он, королевич Вольдемар, за великую его любовь и ласку отплатил ему таким непригожим делом, о котором скоро будет толк у бояр с послами королевскими.
Королевич ответил, доказывая, что вина этого дела на тех людях, которые без всякой причины позволяют себе над ним насилие, и снова просил отпустить его.
Тогда Пассбирга и Биллена призвали в посольский приказ, и там бояре от них требовали, чтобы они вместе с королевичем дали письмо с приложением своих рук и печатей и поцеловали крест, что «дело о браке королевича с обеих сторон полагается на суд Божий и вперед царю с королем быть в крепкой, братской дружбе и любви и в ссылке[13] навеки неподвижно».
– Как только вы все это напишете и крест поцелуете, – говорили бояре,
– так и будете вместе с королевичем вашим отпущены в Данию. Вечному же докончанию быть по договору царя Иоанна с королем Фридрихом.
Послы датские, уже потеряв всякую веру в обещания московитов, не спешили радоваться. Они ответили:
– Если главное дело, свадьба королевича, остановилось, то нам никакого другого дела делать и закреплять, без королевского приказа, нельзя, хотя бы нам пришлось и десять лет еще прожить в Москве.
На это им бояре ничего не сказали и так и ушли из приказа. Опять началась ежедневная пересылка писем, опять королевич просил отпустить его; послы тоже просили не держать их без всякого дела.
На это получили они ответ, что без обсылки с королем Христианом отпустить их нельзя.
«Когда король отпишет, – значилось в царской грамоте, – то мы, великий государь, выразумев из грамоты, с вами и делать станем, как о том время покажет».