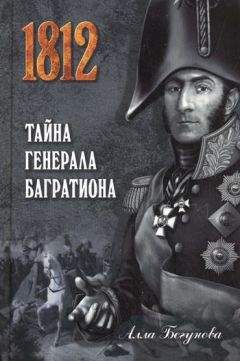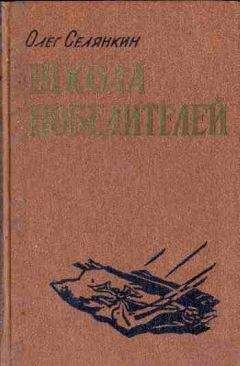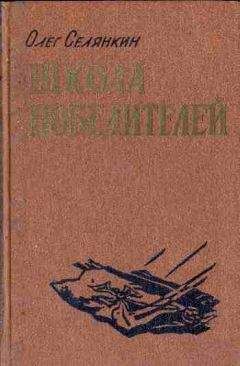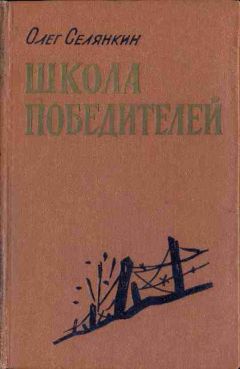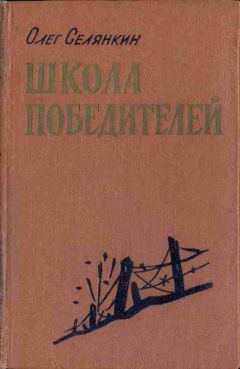Петр Якубович - В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
– Эхма! Давайте-ка лучше песенку, братцы, споем! – сказал молодой, довольно красивый парень Ракитин, имевший в тюрьме прозвище "осинового ботала" (так назывался бубенчик, который вешают на шею коровам, чтоб они не заблудились в тайге).
И, не дожидаясь поощрения, он запел высоким, сладеньким тенорком:
На серебряных волнах,
На желтом песочке
Долго-долго я страдал
И стерег следочки.
Вижу, море вдалеке
Быдто всколыбнулось…
Но эта песня, должно быть, не понравилась ему, и он тотчас же затянул другую:
Звенит звонок – и тройка мчится
Вдоль по дороге столбовой;
На крыльях радости стремится
Вдоль кровли воин молодой.{19}
Я насторожил уши.
– Вдоль чего стремится?
– Вдоль кровли воин молодой… То есть совсем, значит, молоденький паренек, ну вроде как я… И красавец такой же… И едет он к жене своей родной, супруге своей драгоценной…
– Постойте! Как же по кровле может он ехать? По дороге, по полю – так, а по крышам кто же ездит? "В дом кровных" нужно петь, то есть в дом родных.
– Хорошо-с. Это я беспременно запомню, будьте спокойны. Ох, и жестокая ж была у меня прежде память, Иван Николаевич, до чрезвычайности я, бывало, помнил всякую вещь! И ужасную страсть имел к наукам. Ну, а с тех пор как женился, гораздо тупее стал.
– А, вы женаты, Ракитин? Где же ваша жена?
– Здесь же, за мной пришла. Да разве вы не, видали- в обозе женщина ехала? Скверненькая такая, скверненькая старушоночка, плюнуть хочется! Она на пятнадцать лет меня старе.
– А вам самому сколько лет?
– Двадцать седьмой вот с покрова пошел. И мальчишечка у меня, знаете, есть, сюда же пришел, Кешей звать. Третий годок. Ох, и болит у меня сердечушко об ем, как подумаю, – болит!
– А об жене не болит?
– Жена что! Жен можно двадцать добыть, стоит захотеть. Особенно такому артисту, как я!.. Любая баба с ума от меня сойдет, от честной моей красоты!
И он вдруг пустился в пляс, приговаривая скороговоркой:
Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Ви-лы, грабли, две метелки и косач!
Приходили две чертовки и лешак,
Утащили две пудовки и мешок!
– Ах ты, ботало осиновое! – хохотали арестанты.
В эту минуту в дверях появился нарядчик Петр Петрович.
– Запарился же я, ребята! – сказал он, снимая шапку и обтирая лоб красным клетчатым платком. – Трудненько будет забираться сюда.
Тяжело дыша, он уселся рядом с нами на бревенчатом широком срубе шахты. Я попросил его объяснить, что имеет в виду горное ведомство, предпринимая эти работы.
– Да, почесть, ничего, паря, не имеет… Так, дурные деньги завелись… К старым выработкам, вишь, подойти хотят, что в той большой сопке находятся. Там вода теперь – ее нужно спустить через штольню вниз, вон в то болото у светлички.
– Когда же осуществится этот план?
– В том-то, паря, и дело, что – когда?.. Если бы вольный труд… А с картежными никогда этого не будет.
– Никогда?..
– Ну, может статься, лет через тридцать – сорок. Надо только думать, что гораздо раньше надоест деньги зря бросать… И в старину-то к тому ж, шелайская руда не из первосортных была: на пуд всего каких шестнадцать золотников серебра. А в Алгачах, к примеру, есть жилы – двадцать восемь золотников дают. Там только людей подавай, а серебро сейчас же бери, без всяких подготовительных работ… Вот хоть бы эту шахту взять: ее надо довести, по планту, до шестидесяти сажен глубины; пока же в ней девять всего сажен.
– В таком случае для чего же возобновлен Шелайский рудник?
– Для тюрьмы… Чтоб, значит, вашего брата учить!..{20} Однако, ребята, мы болтаем, а работать-то всё-таки надо. Как бы уставщик не заглянул… Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тяжело, а подползти все же может. Надевайте канат на валок!
Мы накрутили на вал канат и к концам его привязали по бадье, или, говоря на горном жаргоне, по кибелю. Четверо из нас, в том числе и я, стали вертеть вал за железные ручки, двое других принимали кибель и выливали из него вонючую воду в пристроенный тут же желоб, из которого она стекала в канаву.
"Вертеть шарманку" вчетвером и даже втроем было совсем легко; вдвоем приходилось уже изрядно напрягаться, в одиночку же из всех нас смогли выкрутить только двое: Семенов и еще один, невзрачный с виду, хохол. Петр Петрович тоже захотел попробовать силу и, хотя с большим трудом, все же выкрутил.
– Ну, теперь я пойду, братцы. Прощайте, не бросайте робить, пока казака не пришлю.
– Вот что, Петр Петрович, – подошел к нему со сладенькой улыбочкой Ракитин, – вы задайте нам лучше урок. Знаете, у арестанта тогда только и руки на работе чешутся, когда интерес есть, а так, всухую, оно что же-с? То же, что со старой бабой такому молодцу, например как я, любовь крутить.
– Для меня, пожалуй, как хотите. Триста кибелей выкачайте, тогда приходите в светличку.
– Многовато-с!..
– Нельзя меньше, уставщик осердится.
– Ну, ладно, – сказал Семенов, – триста идет!
– А тот кибелек-с, который вы сами вытащили, тоже прикажете сосчитать?
– Отвяжись, шут гороховый, некогда мне с тобой лясы точить.
– Ну, всего хорошего!
Торговать не дешево!
Красных девушек целовать,
Нас, горемык, не забывать!
Ах, что вы, девки, делаете,
От нас, парней, бегаете!..
Петр Петрович ушел. Я полагал, что мы сейчас же с большим усердием примемся за работу, так как было уже не рано, а урок казался мне изрядным. В душе я удивлялся даже, что сотоварищи мои так мало торговались с нарядчиком. Но как только последний скрылся из виду, Ракитин взвизгнул от радости, подпрыгнул, потом заржал жеребцом и наконец закукурекал:
– Чай варить! – закричал он. – Кончен урок!
Остальные безмолвно последовали его приглашению. Семенов взял котелок и пошел к казакам спрашивать, где они брали воду. Я с недоумением поглядел на Ракитина.
– Как кончен урок? Когда же мы успеем?
– О, не беспокойтесь, Иван Николаевич, времени у нас много будет. Вы на сколько лет осуждены-с?
Я сказал.
– Фю-ить! Много воды выкачаете за эстолько времени! Больше трехсот кибелей.
– Значит, вы обманете нарядчика? Скажете – триста выкачали, не выкачав и тридцати?
– Во-о-от-с! Догадались. Вот именно! Следуйте всегда моему правилу, Иван Николаевич: старайтесь об одном только, чтобы желоб замочен был. Замочен у нас? Ну, и великолепно!.. Ах, нет, нет! Вот тут краешек сухой, остался… Мы его позабрызгаем сейчас, вот так, вот этак… Чтоб настоящей, значит, работы вид показывало. Теперь я свободен, господа-с! Может, желаете песенку прослушать?
Не слышно шуму городского,
На веской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит янтарная луна.{21}
– Или вот еще, гораздо лучше:
Уж за горой сыпучею
Потух последний луч,
Едва струей дремучею
Юрчит вечерний ключ!
Возьму винтовку длинную,
Отправлюсь из ворот,
Там за скалой-пустынею
Есть левый поворот.{22}
Семенов достал между тем воды, быстро сварил чай на солдатском костре, и мы предались сладкому кейфу.
– Напьемся чайку, можно и соснуть будет малость, – продолжал болтать Ракитин. – Вы лягте-с, Иван Николаевич, ей-богу лягте, я вам постельку приготовлю. Наломаю лиственничных веточек, принесу на носилках с Петрушкой, и вы превеликолепно у нас отдохнете. Сам я днем не умею спать: у меня, знаете, мыслей чрезвычайно много, и кровь также большой напор делает. Так я на стреме около вас посижу. Чуть замечу- идет какое начальство, – и разбужу вас легохонько.
Но я наотрез отказался от этого любезного предложения, сказав, что тоже не умею спать днем и потому предпочитаю поболтать.
– На сколько вы лет осуждены, Ракитин?
– На одиннадцать. Я ведь, Иван Николаевич, совсем безвинно в работу пошел. За шапку. Вот побожиться, за шапку!
– Как так?
– Был я сердит на одного парня… Вот. Петька знает его, Трофимова Алешку. Мы все ведь из одного места, из Енисейской губернии – и Гончаров, и Петька, и я… Ну, из-за девок, конечно, вышло… Вот и надумал я попочтевать его хорошенько, то есть ребра от души пощупать. Подговорил Сеньку Иванова. Укараулили мы с им раз, как Алешка выехал куда-то со двора, пали в кошеву- и айда за им следом. Нагоняем на степу: "Стой!.." Он туды, сюды метаться… Нет, брат, шалишь. Я прыг в его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь – прямо зубами в груди впиваюсь… У меня, знаете, привычка такая: когда в гневе я, сейчас зубы в ход… Сенька- тот одной рукой за машинку его (за глотку), другой- под мякитки жарит. Здорово употчевали голубчика, изукрасили так, что не рыдай, моя мамонька! Избили и бросили в снег. Я еще снежком взял малость запорошил. Сели опять в кошеву – и айда по домам. А Алешка возьми да и отживи! Вылез, как медведь, из-под снега, в крове весь… Пришел прямо к сельскому старосте и подал на нас с Сенькой заявление, что мы у него, мол, шапку и денег семьдесят пять рублей отобрали. Сделали у нас обыск: глядь-т и впрямь у меня в кошеве Алешкина шапка лежит! Пришло кому-то из нас в дурью пьяную голову – шапку у него отобрать, да потом и из ума ее вон! Сами просто диву дались: как попала? На что брали? А уликой она меж тем большой явилась. Так, за шапку только, и в каторгу пошли- на одиннадцать лет.