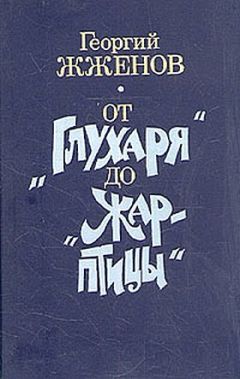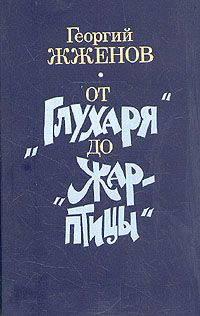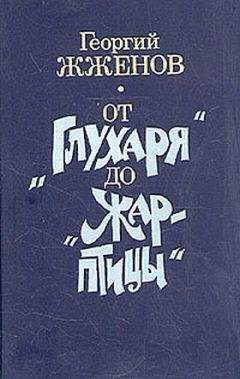Михаил Осоргин - Рассказы (-)
Теперь передышка до вечернего часа, до выхода газет тяжелых и экстренного выпуска легких и бойких. Где это время проводит Франсуа? Судя по защипкам панталон, он где-то оставляет велосипед, и неудивительно, если часы отдыха он проводит в семье, завтракает, спит, готовится к вечерней работе. Но я должен сказать, что как-то не вижу его семьянином, и не идет это к кварталу богемы. И вообще в этот час передышки всего естественнее поговорить о Франсуа как о носителе определенной идеи, как об источнике наших политических и всяких иных откровений, о возбудителе и проводнике действенности нашей воли. Без него мы все давно бы заснули! Но он с утра подымает на ноги наш Латинский квартал, самовлюбленный и уверенный в своей исключительности, будоражит его, напоминает ему о существовании других кварталов и миров, о женщине, разрезанной на куски, о на куски распавшихся странах, о средневековом процессе ведьм, сознавшихся в колдовстве, об испанских душах под развалинами Мадрида, о многознаменательных речах, за которыми последуют многозначительные события, о людях, сковырнувшихся с неба, и борзых, первыми не догнавших заводного зайца, о побежден-ном раке и новой форме гриппа, о седьмом браке холливудской бездарности и последних словах скончавшегося престарелого финансового мошенника. Он, Франсуа, не дает нам замкнуться в наших раковинах. Едва передохнув, он бежит по улицам, высунув язык, слегка волоча ревмати-ческую ногу, на лоб сдвинув тирольскую шляпу и выкрикивая названия газет и перечень важнейших событий.
В вечерний час он представляется мне вместилищем политических страстей и гением войны. Мне кажется, что в его груди бушуют противоречия, в голове с треском рвутся стратегические карты, изо рта вылетают смертоносные снаряды. Охрипший его голос ни на минуту не замолкает, шея налита кровью, движения судорожны, и безгранично его презрение к монете, которую он сует в карман или извлекает для сдачи. Он - смерч в пустыне, готовый опрокинуть и засыпать караван уличных прохожих; он - пророк, бичующий равнодушных. Возбужденный возбудитель, он в этот час превращает в сенсацию жужжанье газетной мухи, из которой делает слона без всякой корысти, лишь потому, что каждый день должен иметь свою злобу, иначе мы заснем, и жизнь покатится обратно на несмазанных колесиках обывательского равнодушия. И вот, давно уже чуждаясь политики, невольно протягивают руку с монетой, и пальцы салит типографская краска. Франсуа обманул и на этот раз: мир не перекувырнулся, огненный дождь над ним не пролился, прошлое не испепелено, будущее остается смутным. Хриплый возглас Франсуа отдаляется, унося тревогу минуты, все же оставившую в воображении раздражающую царапину, а в памяти дикий взгляд белесых глаз газетчика Латинского квартала.
Засовывая в карман газету, уже потерявшую свежесть и свернутую внутрь заголовком (американцы швыряют ее на улице, а мы зачем-то уносим домой с мелкобуржуазной бережли-востью), - я опять мысленно возвращаюсь к загадке: как может Франсуа, так пылая ежедневно за себя и за нас, постоянно воздвигая, защищая и низвергая баррикады, вызывая и убивая призрак гибели мира, - сам не сгорать и возрождаться из пепла белоглазым фениксом в тирольской шляпе? Где-то в кармане широких штанов, висящих сзади мешком, у него припрятано противоядие, какая-то тайна известна этому носителю вечной тревоги!
* * *
В тихий час пищеваренья, когда бегу времени мешают детские колясочки, мы с вами идем погулять в Люксембургский сад - великий памятник любви старой Франции к простору, ее презрения к экономии воздуха, другой такой памятник - площадь Согласия Круглый бассейн Люксембурга - настоящее детское озеро, аллеи - улицы, зеленый газон - излюбленные залы танцующих сатиров. В удаленной части есть обширная, как все в саду обширно, крокетная площадка, где играют не дети, а седобородые дородные старцы, какой-то старинный клуб любителей невиннейшего спорта. И публика - старики, тончайшие ценители ловкого удара молотком по полосатому шару. На их лицах то же выражение, как и на личиках детей, пускаю-щих в воду бассейна оперенные парусом или механические кораблики. Покой, отдых, ни войны, ни политики. Мы, конечно, побываем (чтобы взглянуть и вздохнуть) у изумительного фонтана, где огромный циклопический мужик ревниво наблюдает белоснежную Любовь, окруженную живыми голубями, прилетающими поплескаться и напиться чистой воды. Палые листья в воде, наслаждающиеся водной прохладой рыбы, никогда не видавшие предательского крючка, живущие в безопасности и довольстве. Пройдем и туда, где одеревенелыми головами будущие граждане Франции подбрасывают похожие на их головы кожаные шары и где матери и няньки вяжут бесконечную нить судьбы играющих песком поколений. Улица рядом, быстро меняющий лицо знаменитый Бульмиш,- но шум улицы тушуется деревьями, даже безлистыми. И тут, неподалеку от входа в сад, в малопроходной аллее, мы видим скромную, втянувшую голову в плечи мужскую фигуру в тирольской шляпе, занятую делом Франциска Ассизского,*- кормящую птиц крохами белого насущного хлеба.
* ...делом Франциска Ассизского... Святой Франциск Ассизский (1181 или 1182 - 1226) итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.
Франсуа невозможно сразу признать, и даже его белесые глаза потемнели и поголубели. Он стоит неподвижно посередине аллейки, механическими движениями вынимая хлеб из-за пазухи, а перед ним физкультурным строем расположились на песке воробьи и голуби. Человек и птицы взаимно притягиваются; птицы насторожены, но доверяют старому знакомому, газетчику Латин-ского квартала. Едва заметным движением руки он подбрасывает крошку хлеба над стайкой; очередной воробей подпрыгивает и ловит крошку на лету, уступая свое место на песке другому. Видно, что у птиц установлена какая-то непонятная нам очередь - нет ни паники, ни налета стайкой. Затем рука, бросающая хлеб, замирает и легонько опускается ниже. Тогда из центра стайки вылетает очередной смельчак, трепещет крылышками и со всей осторожностью хватает хлебную крошку прямо из пальцев Франсуа; вслед за ним другой, третий,- сейчас же отлетая в сторону и уступая место следующему. Франсуа извлекает из-за пазухи кусочек покрупнее и подымает руку выше. Тогда из заднего ряда птичьего строя вылетает голубь и повторяет тот же опыт. Когда человек выпрямляется,- вся стайка птиц, как по команде, слегка отходит и строит ряды заново; когда человек принижается к земле, делаясь маленьким и нестрашным, весь ряд приближается к нему прежним чутко-напряженным строем.
Бережным шагом, избегая резких движений боковыми дорожками подкрадываются зрители и окружают широким кольцом стайку птиц и их кормильца. Сейчас в Париже - это самая мирная и самая идиллическая картина, и художник, ее создавший,- тот самый Франсуа, который часом позже будет терзать наши уши истерическим криком, призывая нас на бой с ветряными мельницами и на борьбу с действительно грозящими нашему мирному быту обвала-ми, атаками с неба, вспышками внутри нас нечеловеческих чувств и разрывами усталых сердец. На латунные наши монетки - оплату сенсаций - он купил в булочной хлеба для мирных коренных жителей Люксембургской птичьей республики. Он не смотрит по сторонам - его глаза устремлены на любимцев, которых он, может быть, знает по именам. У него немножко дрожат руки, то ли от волненья, то ли от зимнего холода, а может быть, от вина, которым он вынужден часто согреваться во всех бистро квартала, где он - свой человек. Во всяком случае, это совсем, совсем не тот, не уличный крикун и не агент мировой тревоги. И мы, налюбовав-шись, отходим на цыпочках.
* * *
Опять улица, номера автобусов, переход сквозь строй блестящих полустертых лепешек, первая световая вывеска, зимние слезы с неба, стрелки часов, повсюду указывающих разное время, ослепительность скользящих за стеклами черных и коричневых туфелек, оглобли белого хлеба, стило среди конвертов и бумаги, стоны радио, красная табачная сигара над головами, патентованные снадобья, ящики с книгами за франк и за два, кружевные венки для скончавших-ся тетушек, ободранные трупы и красные креветки, элегантные пальто на деревянных людях с синими полуотесанными мордами, оторванная дамская нога в чулке, выставка потерявших головы шляп.
И когда наконец вы готовы повернуть в ваш переулок, вас нагоняет, издали донесшийся вопль безумного человека в тирольской шляпе, несущего достовернейшие вести о новых мировых катастрофах, о том, что покоя на земле нет и не будет, что не дремлет враг и неустанно стережет вас предатель и что обо всем этом вы узнаете, если, остановившись и подождав бурей налетевшего Франсуа, вы сунете ему латунную монету. Птицы улетели, заперты входы в Люксе-мбургский покой, и скоро весь Париж запылает зелеными и красными мигающими огнями.
ПУСТОЙ, НО ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ
Молодой человек в совершенно новом пальто и желтых перчатках сидел в вагоне метро. Он недавно приехал из России и скоро возвращался. Пальто купил в "Бэль-Жардиньер", перчатки на Капуцинском бульваре. Быть в Европе очень приятно, особенно в Париже, хотя жизнь настоя-щая не здесь, а дома, в России. Мудреная жизнь, но своя. Приятно будет и вспомнить, как жил в Европе; может быть, еще как-нибудь удастся побывать. И любопытно, как невольно поддаешься культуре, приучаешься держаться и вести себя по-европейски! В числе прочего, молодой человек знал, что европейцы носят перчатки на обеих руках и уступают место дамам.