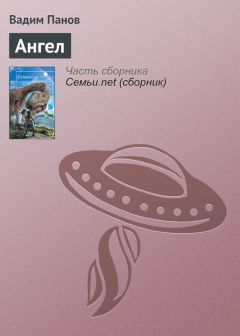Иван Лажечников - Беленькие, черненькие и серенькие
Покончив свои служебные обязанности, он уходил в свой садик, сажал плодовитые деревья, цветущие кусты, сам ухаживал за ними в поте лица, как исправный садовник. «Вот, — говорил он сам с собою, — приедет Катя, сорвёт румяное яблочко с дерева, скушает его и подумает: ведь папаша приготовил ей эти яблочки. И цветочками полюбуется да приколет к груди или в чёрные свои волосы — как хороша будет голубушка в этом наряде!» Выпросит иногда книжечку у Пшеницына, только с уговором, чтоб не сказывал охотнику писать, да почитает иное хорошенькое сочинение, раз и два, а как приедет к нему Подсохин, поспешит спрятать под подушку, будто запрещённый товар. «Очень понравилась мне эта книжечка, — скажет Пшеницыну, — как приедет Катя, попрошу у вас опять». Подчас заглянет в секретную шкатулку и сосчитает в ней крупную и мелкую монету. Вот уж накопилось в Катин банк пятьдесят рублей; авось к приезду её накопится ещё столько ж. И радуется он, как дитя, этому богатству дочери. А получать её письма, перечитывать их по нескольку раз, перебирать нежность и силу каждого словечка, будто разные лады музыкального инструмента, было для него высочайшим наслаждением. Для этого занятия запирался он на ключ, чтобы кто-нибудь не помешал его восторгам. Он целовал эти письма втайне, как нежный любовник, клал их, засыпая, под подушку, авось приснится ему Катя. Радовался он, что милое дитя его здорово, делает успехи в учении и переходит всё в высшие классы. «Вот, — думал он, — осталось ей годик побыть в институте; вот уж и несколько месяцев». Ждёт и не дождётся времени, когда обрадует его своим приездом. В этих сладких надеждах он забывал, что этот прекрасный цветок может поникнуть головкой под непогодами тяжёлых нужд, которые он, привыкший к ним, так безропотно переносит. Всегда довольный, всегда улыбающийся, Горлицын, кажется, и горестей никаких не знал. Разве сядет один-одинёхонек под сводом ночного неба на садовую скамейку и раздумается о своей покойнице. Глядит на небо и ищет между звёздочками, в которой-то из них живёт душа её. Кажется, ждёт он: не взглянет ли оттуда она, не подаст ли голоса или хоть знака. Вспомнит про нежную её любовь; целая, прекрасная жизнь с нею пройдет перед ним; остановится на некоторых драгоценных часах и даже минутах. Грустно и сладко ему станет, и горячие слёзы потекут из глаз его. После того легче ему бывает возвращаться домой, как будто он в самом деле видел свою бывшую подругу, будто беседовал с ней, и с весёлым лицом встретит своих домочадцев.
Так прошли три, четыре года его пребывания в Холодне. Здесь никто из его недоброжелателей не смел посягнуть на его место, потому что сам губернатор, наслышавшись об его бескорыстной службе, приказал своему чиновнику, ехавшему в Холодню, поклониться соляному приставу. Воздаяние чести только одному честному сильно действует на нравственность должностного общества. И потому этот необыкновенный знак внимания такой высокой особы к такому мелкому чиновнику заставил прикусить языки, изощрённые против Горлицына, и забил тревогу в нечистых душах. Многие из прежних его противников стали заискивать его доброго расположения.
Был день летний. Александр Иваныч работал в своём саду, когда Филемон принёс ему письмо с почты. Слуга к этому прибавил: «От Катерины Александровны». Он не знал грамоты, но так уж привык к почерку своей барышни, что мог его сейчас угадать. «От Кати!» — сказал радостно Горлицын, бросил свою лейку, облив себя порядком водой, и, как делал обыкновенно в важных случаях, перекрестился. Дрожащими руками развёртывает он письмо, сердце его необыкновенно бьётся; читая, он несколько раз переводит дух. Катя пишет, что здорова, что кончила курс своего воспитания. Государыня при выпуске сделала ей денежный подарок и, что для неё дороже всего, наградила её такими приветливыми словами, которые на всю жизнь залягут в её сердце. Выпущенная из золотой клетки, птичка прилетит через три недели на родное холоденское гнёздышко и припадёт к груди отца. Она будет ехать до Москвы с подругой и матерью её, а в Москву надо уж будет послать своих лошадей и прислугу, именно в такой-то день… Александр Иваныч, вне себя от радости, велит позвать Матрёну-Бавкиду, читает своим домочадцам письмо во всеуслышание, толкуя им силу каждого выражения. Немного запнулся было на словах: своих лошадей; лёгкая тень набежала на его лицо и сейчас исчезла. Он махнул рукой, примолвил: «Не беда, наймём славную тройку!» При этом случае Филемон спросил барина: где ж, по приезде, изволит проживать Катерина Александровна — не в одной же комнате с ним. «Отказать Чечёткиной, сейчас отказать», — закричал Горлицын, так что едва ли не слышала эти слова барыня, нанимавшая у него покои. Слуга покачал головой и скорчил жалкую мину в знак того, что этот подвиг не скоро можно будет совершить. И в самом деле нелегко было выкурить со двора барыню-сутяжницу.
Перезрелая дева, майорская дочь Чечёткина была сама по себе на подъём тяжела. Тучная, обременённая несколькими уродливыми выступами, она не иначе вставала с своего сиденья, как с помощью двух дюжих девок. Ноги её отекали, и потому, чтобы не стеснять их, носила башмаки с приплюснутыми задками. Когда же майорская дочка покоилась на своем седалище, при ней находилась неотлучно на полу живая машинка, лет десяти девочка, беспрерывным трением возбуждавшая в них обращение крови. Если ж машинка от усталости останавливалась, госпожа, с своей стороны, возбуждала в ней движение добрым пинком ноги, а иногда пугала её, что татарам продаст. Калмыцкий облик, совиный взгляд, чёрные с проседью усы, которые щетинились, потому что нередко подвергались острию ножниц, голос резкий, ударявший в уши, как свист паровика, возбуждали в созерцателе этих красот не очень приятное чувство. Приёмная комната её походила на канцелярию; в ней вечное сонмище подьячих, вечное совещание об исках, пропажах, проторях[294] и убытках, беспрестанный шелест от переворачивания листов и неумолкаемый скрип перьев. То оттягивала она несколько сот душ за крестьянина, который от предков её, во времена Петра I, бежал к одному помещику; то требовала пол-уезда, на основании малейшего сходства названий пустошей или угодий, которыми владела её прапрабабушка; то заложит в двое рук землю свою и старается отделаться от кредиторов, будто за несоблюдение законных форм. Во всех актах, которые она совершала, оставляла всегда лазейку для процесса. Придёт к ней родственник или знакомый, для того только, чтобы при будущей встрече с ней отделаться наперёд от какого-нибудь дерзкого приветствия, и начнёт она душить посетителя своими делами. «Вообрази, батюшка, — говорит, — какой клад послал мне Господь на днях. Еду я из своей подгородной деревни[295]. Вот, видишь, переезжаю речку Перекусиху, что за деревнею Бабий Нос. А тут, видишь, в горку ужасенные сыпучие пески. Вечно умаешь на них лошадок… как приедешь домой, уж всё велишь лишний гарнчик[296] засыпать, а овёс, знаешь сам, в прошлом лете не уродился у меня. Скажешь, Божья воля, батюшка? Что за Божья воля? Мошенник староста Сидорка поморил господских коровёнок, земли истощали. Уж и проучила его порядком — с новотёла корову под красную шапку; тьфу ты, пропасть! Корову… сынка его под красную шапку[297], а корову таки привели за рога на господский двор. Вору вперёд наука!.. Скотина славная — немудрено, господским добром разбойник откормил — по ведру молока даёт… За то велю каждый раз при мошеннике Сидорке доить её…
— Что ж, матушка, клад-то ваш? — перебил её посетитель, боясь, чтобы она в увлечении своего рассказа не довела его до колыбельных пелёнок своих.
— Так вот, батюшка, едем по пустоши[298] Семенихине. А тут, знаешь сам, наколесил нечистый дорожек промеж кочек, словно гнездо змеиное расползлось куда попало. Проклятое место! В недобрый час лесовик закружит тут прохожего или проезжего, так что столбняк нападёт…[299] Вот едем мы. Стала меня дрёма томить — от жару что ли, аль блинками нагрузилась. Хочу, хочу перемочь себя, а глаза так и липнут, будто мёдом кто их намазал. Осунулась да и окунись в мёртвый сон. И вижу во сне, вот словно тебя, батюшка, стоит передо мною старец, седенький, худенький, немудрёный такой, шапка облизанная, да и говорит мне: «Сестра Олимпиада, слышь, сестра Олимпиада, восстань с одра. Много лет ищешь ты урочища[300] «стыдно сказать», что отнял у твоего прадедушки незаконными путями сенатский курьер[301] Лизоблюдкин; много денег потратила межевым[302], а все попусту. Жаль мне тебя стало, бедную, сизую голубицу; хлопочешь, многострадалица, за грехи отцов твоих, и в девичестве из того пребываешь. Вот и привёл я тебя к урочищу «стыдно сказать», клад у тебя под ногами, а ты спишь, неразумная?» Испужалась я и обрадовалась; хочу, хочу встать — не могу, словно меня верёвками связали по рукам и ногам. Рассердился старик да и толкни меня посошком в зубы. Встрепенулась я. Смотрю, овод так и снуёт перед глазами, а губу всю раздуло в грецкий орех. Кучер-мошенник спит, подлец-холоп спит, вот этот пострелёнок спит (тут указала Чечёткина на живую машинку, у ног своих), лошади стоят у какой-то ямы, понуря голову, и спят. Места незнаемые, на веку моём видом невиданные! Грех таить, пощипала я таки порядком девчонку, зачем спала, да пуще всего, зачем не доложила барыне, что кучер спит, а кучера своей владычною рукой потузила по загорбине. Сама люблю, батюшка, управляться — дело хозяйское! Уходила на нём сердце, протёрла себе глаза, знать, от сна заплыли, и вижу: у ямы прижался к межевому столбу мужичок — седенький, худенький, шапка общипанная. А за столбом целая палестина[303] с рожью — частая, густая, словно кудель[304], а колос-то, колос-то — поверишь ли, батюшка? — с добрую четверть[305], инда матушке бедной тяжело головкой покачивать. Меня дрожь так и проняла. Говорю мужичку: «Скажи-ка, добрый человек, куда это мы заехали?» А он и брякни мне с сердцем: «Урочище «стыдно сказать»». Я так и обомлела. «Правду ли говоришь, добрый человек? — спросила я его. — А то, может статься, и нагрубить хотел нехорошею речью». — «Баю тебе, так и зовут», — сказал он, махнул рукой и поплёлся по меже. Вот, батюшка, десять лет искала-искала, сколько в межевых книгах порылись, а тут, благодать какая, за мою добрую душу и сиротство… (Чечёткина хотела было ткнуть ногой живую машинку, да воздержалась.) Старичок пожаловал мне справочку, уж подлинно сон в руку… Землица-то, батюшка, десятков тысяч стоит, да и деревеньку, что на ней поселена, оттягаем. Зато и не дремлю, не таковская голова! Уж и межевщика наняла, и поколенную роспись[306] написали. Приятель мой, что был секретарь уездного суда, знаешь, Сопелкин, клянётся и божится, что не миновать моих рук…