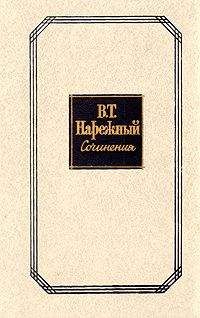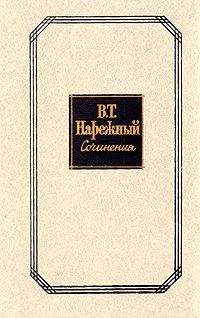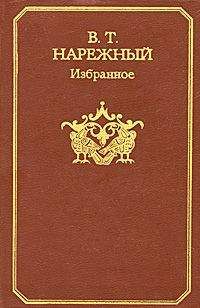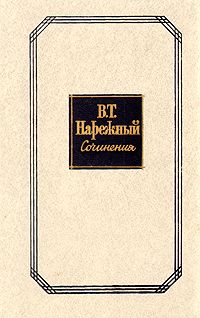Василий Нарежный - Том 2. Романы и повести
Атаман, осмотрев нас достаточно, спросил:
– Кто вы, господа? откуда? чем себя содержите? по каким причинам пожелали его видеть?
Услыша его голос, я совершенно удостоверился, что это Сарвил; почему, приняв веселый вид, сказал:
– Прежде нежели что-нибудь отвечать станем на вопросы великого атамана, позволь обнять в тебе славного философа Сарвила! Узнаешь ли во мне верного послушника твоего Неона Хлопотинского?
Он сперва изумился, бросил на меня быстрый испытующий взор, потом ласково улыбнулся и, обняв по-братски, сказал:
– Добро пожаловать, однокашник! Кто бы мог узнать? Так вырос, возмужал! Скажи же, какими судьбами ты забрел сюда?
– Я удовольствую справедливое твое желание, – сказал я, – но позволь прежде рекомендовать общего нашего приятеля Диомида Короля, огороду коего довольно от нас доставалось!
– Как! это он! – вскричал атаман засмеявшись. – Обнимемся, старик! Как же он принарядился! Право, я теперь столь живо припоминаю прошедшие случаи, что мне мечтается, будто все еще богословствую в проклятой бурсе! И этот молодой человек не был ли также знаком мне прежде?
– Никак, – отвечал я, – и я признаюсь тебе, Сарвил, в прежнею доверенностию, что этот молодой человек есть жена моя и для некоторых важных причин носит не свое платье.
– Благодарю за доверенность, – сказал Сарвил, – хотя, впрочем, она для меня и не необходима. Конечно, я не мог знать, что сей молодец есть жена твоя, но с первого взгляда не скрылись от глаз моих проткнутые уши и спрятанные под платьем длинные волосы. Есаул Ариан! прикажи набрать стол.
– Мы уже завтракали в его палатке, – сказал я.
– Не мешает, – отвечал он, – после завтрака у есаула можно посидеть за столом у атамана.
Есаул вышел.
Король, приняв веселый вид, подошел к другому есаулу и, обнимая его, с комическою нежностию сказал:
– Почтенный друг Урпассиан! позволь поблагодарить за угощение! Ты недавно так был скромен, что лишил нас сего удовольствия.
– Как! – вскричал Сарвил, захохотав во все горло, – так это были вы, которых полюбил он за великодушный поступок, оказанный израненному казаку? Можно ли было это подумать! – Он продолжал хохотать.
Урпассиан, хотя и его атаман приглашал к завтраку, отговорился, представляя, что он, перехватя в своей палатке на скорую руку, должен сделать известные распоряжения во вверенной ему роте. Он удалился, стол приготовлен, и мы четверо уселись. Сначала Сарвил ел как голодный бурсак, приглашенный к столу зажиточного гражданина; после кушал с перемежкою, пил наливки и нас усердно потчевал. В это время много шутили насчет прежней жизни. Говорено было о Королевом огороде, а особливо не позабыто чудное приключение в саду благочестивых стариц.
– Ты изрядно подшутил тогда надо мною, Неон, – сказал весело Сарвил, – и если бы в то время попался мне, как из монастыря выгнали шелепами*, то действительно быть бы тебе без пучка; но теперь за то искренно благодарю. Если бы я не был выгнан, то теперь бы где-нибудь в бедном селении дьяконствовал, а много-много что поповствовал; а вместо того теперь я живу достаточнее всякого архимандрита.
– Но так же ли покойно? – спросил Король, наливая
– Почему же и не так? – возразил Сарвил, – в жизни нашей, конечно, много опасностей, но зато не мало и удовольствия; в монастырской жизни нет никаких опасностей, зато вечная скука.
– Итак, ты не намерен переменять образа теперешней жизни? – спросил Король.
– Не думаю! – отвечал Сарвил. Стол кончился, и мы встали.
– Я надеюсь, – сказал Король с видом искреннего доверия, – что Сарвил, как человек честный и ученый, не сделает нам притеснения и, по старинному знакомству, прикажет проводить на большую дорогу.
– С великою охотою, – отвечал Сарвил, – но теперь еще довольно рано, и мне хотелось бы рассказать вам случаи моей жизни и каким образом я из философа сделался великим разбойником.
Хотя было бы нам гораздо приятнее убраться как можно скорее из сего опасного места, однако отказом опасались оскорбить атамана, почему с веселым видом изъявили желание слушать его рассказы, и он начал:
– Вам обоим известно, когда и за что выгнан я из семинарии шелепами. Выбежав за монастырские ворота, быстрыми шагами шел я сколько можно далее, не оглядываясь. Пришед на паперть церкви преподобного Вавилы, я сел и задумался. «Что буду делать? – говорил я сам себе. – У меня нет ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Куда приклоню бедную свою голову? Данных мне, по милости добродушного отца Герасима, пяти хлебов и нескольких плодов ненадолго станет. Я мог бы, конечно, и один распевать под окнами, но не смею; ибо если в ремесле сем поймают меня прежние товарищи, то накажут жесточее, чем правительство наказывает за кормчество; просить милостыни – стыдно!»
Начали звонить к обедням. Хотя никто еще из прихожан не успел узнать о моем посрамлении, но мне казалось, что оно написано на лбу моем; почему, отошед в уголок, сел подгорюнившись. В сем углу обыкновенно становились нищие. Я намерен был отслушать обедню и попросить у бога благословления на дальнейшие пути жизни моей. Я исполнил свое обещание и молился усердно. Когда обедня кончилась и почти все богомольцы разошлись, я вздумал удалиться в какое-нибудь уединенное место, пообедать и подумать о ночлеге. Поднимаю кису: ба! совсем не моя! Заглядываю внутрь, и вижу три ломтя черного хлеба и несколько луковиц. Одурь взяла меня, и слезы на глазах показались. Вместо прекрасных монастырских хлебов и садовых плодов грызть корки засохшие, Подобно крысе, конечно, больно. Я бросил нищенскую торбу с презрением на землю и вышел за церковную ограду. Бродя из улицы в улицу, с одного базара на другой, видя везде красные щеки, толстые чрева и чувствуя голод, какой только может чувствовать человек в двадцать пять лет, я в первый раз ощутил ненависть к человечеству и поклялся жить впредь на счет его какими бы то ни было способами. Наконец солнце закатилось, и густые пары меня окружили. Вы припомните, что это было около половины августа месяца. Однако ж голод не безделица, и ложиться спать не поевши самое дурное дело, почему и решился я идти на прежнюю паперть и поесть своих корок с луком. Прихожу, ищу своей торбы, но не тут-то было. Это меня не столько уже поразило. Я зарылся в густой бурьян, росший у забора, сотворил молитву и улегся. Хотя в ночь сию никто не прерывал сна моего, но он был легок, как у птицы, и прерывист, как у преступника. Звон к заутреням разбудил меня. Я выполз из бурьяна и вошел в церковь помолиться. Еще никого не было, кроме пономаря, засвечавшего лампады. Мне случилось стать у тарелки, на коей лежали деньги, принесенные правоверными в дар господу. Лукавый как раз предстал ко мне, шепча на ухо: «Глупец! Почему ты не пользуешься? Не упускай случая, какого, вероятно, не скоро найти можешь!»
Так шептал мне бес, и я послушался льстивого гласа его. Пользуясь случаем, что пономарь ушел в придел, я опустил обе руки в тарелку, захватил по полной горсти денег и, смиренно вышед из церкви, спрятал в карманы. Сошед с паперти, я бросился бежать со всех ног. Колени подгибались, в ушах звенело, в глазах мерещилось; мне казалось, что преподобный Вавила гонится за мною. Таково мучит совесть при соделании первого преступления; при втором разе она вопиет менее внятно, при третьем еще менее, а там мало-помалу совсем замолкает.
Глава VI Ярмарочный приятельПришед на самый дальний базар, я купил булок, меду и слив. Это было в конце успенского поста, как вам и прежде сказано. У ближней шинкарки я выпил добрую меру пеннику и, уединясь в бурьян, начал насыщаться. Мед показался мне весьма горек; почему я, уложа его и булки на листок лопушника, побежал опять к шинкарке и потребовал мерку полынной водки, дабы одною горечью отбить другую. И действительно, после сего опыта мед показался мне сладок. Насытившись, начал я считать казну свою. Высыпав из карманов деньги, я счел около двадцати злотых как серебряною, так и медною монетою. Какая бездна денег!
После сего я шатался по городу где ни попало. Заходил к разным шинкарям и шинкаркам, покупал на базарах вареных рыбу и раков и, словом, так пиршествовал, как никогда в бурсе. На дворе сделалось темно, и тут-то я вспомнил о ночлеге, ибо в другой раз спать в бурьяне мне уже не нравилось. Думая да гадая, где бы приклонить голову, я вспомнил, что в Переяславле нет ни одной души мне знакомее, как шинкарки Мастридии, и я надеялся, что она дозволит мне [остаться] хотя на чердаке. С сими мыслями побрел к дородной вакханке.
Приказав подать полкварты вишневки, я начал точить лясы и рассказывать всякие были и небылицы. Как ни красноречиво разглагольствовал, однако время было ночное, и посетители, подобные мне, все разошлись. «Пора и тебе уйти, Сарвил, – сказала Мастридия, – приходи завтра досказать свои повести!» – «Никак! – отвечал я, – надо же допить вишневку, а там и повесть кончится». Таким образом продолжал я помаленьку пить и врать, а между тем родились у меня в уме кое-какие замыслы.