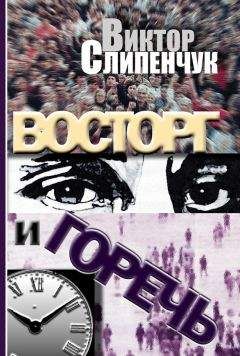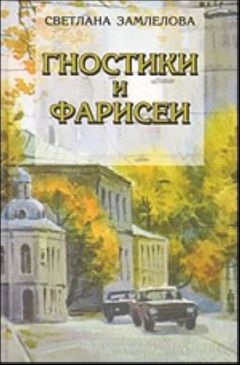Виктор Слипенчук - Зинзивер
Впрочем, не это расстроило, а шаблонность фантазии, эпигонство. Конечно, я не упоминал бы об этом, но именно кляуза "Шекспира от имени всех Шекспиров..." окончательно раскрыла глаза на происходящее. Дело в том, что ни в первом призыве (скажем так), ни во втором, когда я распоясался, у меня Шекспиров не было среди литобъединенцев. А в третьем я вообще не давал никому никаких имен. Предположил, что, может быть, сами того не зная, сидят в актовом зале будущие классики мировой литературы, но конкретно, кто из них кто, не уточнял. Выходило, что они сами, без моего ведома, завладели выдающимися литературными именами.
Самозванцы, Гришки Отрепьевы - они еще смеют называть себя Шекспирами?! Чуть-чуть страна оступилась, еще не сбилась с пути даже, а они уже занесли свои кривые сабли над Иваном Сусаниным. Шляхтичи проклятые - сброд!
Я был полон гнева потому, что в ту минуту всем сердцем ощутил корыстную низость смутного времени, точнее, всех смутных времен.
Потом пришла мысль, что раз литобъединенцы присвоили себе имена, то по моей тарифной сетке с них причитается, они автоматически лишились своих подкожных денег в мою пользу - истратили, так сказать, на покупку литературных имен.
От удовольствия я даже приостановился - я пришел к выводу, что имею моральное право не только не издавать коллективный сборник, но и не отдавать никаких денег. Разумеется, я и думать не думал не отдавать. Я только подумал, что имею моральное право... Но я знал, что отдам, чтобы они совсем уж пали в своем корыстолюбии.
Я зашагал дальше и даже ускорился - никто из нового призыва литобъединенцев не знал о моей сетке. И, стало быть, не мог ею воспользоваться. Тут чувствовалась чья-то волосатая информированная рука.
Маяковского и двух Горьких я сразу отмел - они никогда не ходили в моих приближенных, и в актовом зале я их приблизил по чистой случайности. Другое дело, староста литкружка и его помощник, в прошлом ветфельдшер. Я вспомнил, с каким изяществом он наложил мне на манжеты свои шелковые лигатуры, и чуть не вскрикнул от точности попадания - он! Только он, ветеринар, мог считать новоявленных Лермонтовых и Шекспиров в головах - профессиональная привычка. Но без старосты он бы не осмелился - исключено. Тем не менее участие старосты оставалось под вопросом.
...В понедельник позвонил в редакцию - донес со знанием дела, указал, где и когда брать... Не сказал, что он староста литобъединения, утаил, но и Львом Николаевичем не назвался. Потому и не назвался, что, в отличие от новоявленных классиков, они с ветфельдшером получили свои литературные имена лично от меня. Доведись следствию заняться мною как гэкачепистским сторонником, старосту бы неминуемо вычислили по литературному имени. В общем, ему не хотелось выглядеть в моих глазах доносчиком, и в то же время, чтобы обезопасить себя, он организовал (не без помощи ветфельдшера, конечно) массовые доносы литобъединенцев, которым (может быть, в шутливой форме) присвоил выдающиеся имена по моей схеме.
Никогда не думал, что мне придется самого Льва Николаевича уличать в плагиате!
Я стал вспоминать кляузы, то есть от имени кого они писаны, и обнаружил странную особенность: кроме общепризнанных и давно почивших классиков среди литобъединенцев довольно-таки часто встречались не только зарубежные (коих по патриотическому чувству избегал - наши не хуже), но и ныне здравствующие классики, которые шли у меня, как дефицитные, по чрезвычайно высокому тарифу. Признаюсь, что руководствовался не какими-то там высшими соображениями, а инстинктом самосохранения.
Был случай, когда один совершенно уж никчемный человек вдруг возжелал быть мной, да-да, Митей Слезкиным! Тогда-то я и вздул тариф, а иначе бы не отбился. А потом, одно дело - видеть в литобъединенце давно почившего классика (ностальгия по ушедшей духовности), и совсем другое - плодить двойников здравствующего писателя. Есть в этом что-то противоестественное, патологическое. Исключения, конечно, были, но только для нобелевских лауреатов. А тут из двадцати шести анонимщиков треть - писатели-иностранцы или наши, выехавшие за рубеж. И ни одного Толстого, и ни одного Некрасова! Странно, очень странно, чтобы в отсутствие строго регламентированных тарифов не нашлось никого, кто бы возжелал покуситься на хрестоматийно известные фамилии! Стало быть, при всей свободе выбора на звания Толстого и Некрасова было наложено табу. Кем? Наверное, теми, кто оставил их для себя. Феноменально! Это не только выдает старосту и его помощника - своеобразное использование служебного положения в личных целях, - но и подтверждает, что они принимали активное участие в организации массовых доносов.
Негодяи! Я их возвысил, а они... Что ж, тем горше будет расплата!..
Кипя негодованием, я то и дело возвращался к тронной речи. Угроза поотрывать руки казалась мне безвинным детским лепетом, и я заменил ее. В последнем варианте заключительная фраза должна была прозвучать так: "...но упаси вас Боже когда-либо впредь писать - головы поотрываю!"
Вначале я удивился, что расстояние от конечной остановки до ДВГ одолел пешком - ни разу не воспользовался услугами городского транспорта. Затем удивился времени: до начала заседания оставалось почти пятнадцать минут. И только потом - зловещей отчужденности здания.
Все двери в ДВГ оказались опечатанными, а отмостка была обильно усыпана стеклами и вырванными с мясом оконными рамами, кое-где валялись разбитые вдрызг телефонные аппараты. Если бы я не знал о гостях с ЖБИ, то, наверное, плановые мероприятия революции привели бы в ужас своей бессмысленной жестокостью. Но я знал, а потому обратил внимание, что следы погрома почти не коснулись первого этажа, зато гости с ЖБИ разгулялись на втором - ни одного живого окна, зияющие пустоты. Именно на втором, как на витрине, был выставлен на всеобщее обозрение вопиющий антагонизм путчистов-гэкачепистов и демократов - "белых носков". Первые крушили окна ДВГ массовым оружием пролетариата с улицы, вторые безо всякого оружия, - изнутри. Общий результат (выбитые окна) списали друг на друга - и те и другие имели свой особый взгляд на происходящее.
Подстелив газету, сел на ступеньку крыльца так, чтобы не видеть революционного плюрализма мнений.
Потрясающее изобретение - революция. Потрясающее до основ... А с криминальной точки зрения - гениальнейшее. Все виноваты, а потому никто не виноват. Всякий, коснувшийся революции, греховен, а не коснуться ее нельзя, потому что она сама касается всех. Это очень справедливо, что в конце концов революция пожирает своих детей. Потому что люди, вызывающие революционную ситуацию, - преступники. Я не хочу быть ни революционером, ни контрреволюционером. Я даже гражданином не хочу быть. Я хочу быть обывателем. Да-да, обывателем, у которого есть прямые обязанности перед своей семьей, перед государством, если оно чтит обывателя, а все остальное его священные права. Я не хочу быть ни на чьей стороне, а только - на солнечной. Сколько замечательного вокруг - леса, реки, моря, океаны. А еще космос: звезды, планеты, всякие там астероиды!.. Если все это для любимого человека - понимаю. Если для революции, для ее героев - не понимаю. Почти семьдесят пять лет восхищались революционерами, революционными демократами, растили сообща какого-то нового человека, а на поверку - "горячий" телефон, разбитые окна и опечатанные двери. Может, мои литобъединенцы не так уж и не правы, что старыми, в сущности гэкачепистскими, методами решили разделаться со мной? Для них я (не важно, на чьей стороне) участник революции, а стало быть, со мной нечего нянькаться, - молодцы! В своем доносительстве они более честны, чем подлинные организаторы революции. Во всяком случае, они поступили на уровне нашего советского обывателя, и у меня не должно быть никаких претензий. Самое разумное - забыть о тронной речи, молча отдать деньги и исчезнуть. Мне еще надо поблагодарить их, что они не побежали спасать меня - тогда бы уж точно и меня погубили, и себя подставили...
- Мужчина, что вы здесь делаете, ваши документы?! - прервал мои мысли неизвестно откуда взявшийся милиционер.
Я впервые видел милиционера моложе себя - пацан лет восемнадцати. Отсюда и непривычное для меня обращение: обычно ко мне всегда обращались на "ты" или - "вы-вы, молодой человек, да не крутите головой, вам говорят...". А тут - мужчина! Я даже маленько подрос в собственных глазах, надулся от важности, закинул ногу на ногу.
- Собственно, в чем дело, при чем здесь документы? - сказал я и несколько с вызовом стал покачивать ногой едва ли не перед носом милиционера.
Он вначале побледнел, потом лицо его сделалось пунцовым-пунцовым, точно у школьника. Я непроизвольно встал, относя его волнение на свою бесцеремонность, но в ту же секунду он вытянулся в струнку и отдал мне честь, прищелкнув каблуками.
- Простите, меня никто не предупредил, - извиняясь, сказал пацан-милиционер и опять покраснел, словно девица.