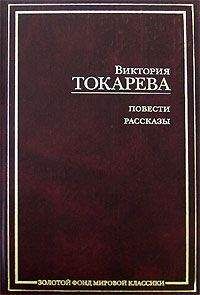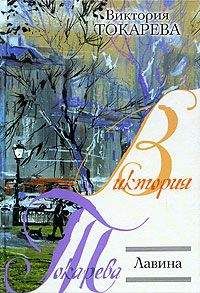Ольга Трифонова - Единственная
— У Трифонова — он поморщился. — Терпеть его не могу. Еще с Царицына, мы там сильно не ладили, помнишь, Надя?
— Такой чернявый в очках?
— Из донских казаков, поэтому самомнение необыкновенное. Неважно. Боря, это кто?
— Муж моей тетки Веры Николаевны Кольберг.
— Какая же красивая у тебя мать была. Я встретил ее в Иркутской ссылке. Красивее женщин не видел… Дядя, так дядя. Надя, дашь ей анкету, а ты заполнишь и принесешь.
Ирина сразу погасила папиросу, словно приготовилась заполнить анкету.
— Ой, замечательно! Просто замечательно. Спасибо.
— Как работа? У вас там один княгини и графини бывшие. Авель набрал аристократок, а на самом деле — курятник. Никакого роста. Бросай. Иди учиться. Куда хочешь?
— Я не знаю…
— Я знаю. Ты в театре хочешь работать. Учись на театральном.
Ирина обедать не осталась, не терпелось порадовать мать и тетку. За обедом он сказал:
— Там семейка гнилая. Одни эсэры и меньшевики.
— Ну и что? Ирина-то причем?
— В том-то и дело, что ни при чем. Это ж надо, чтоб у Каллистрата и Юлии родилось существо, которое кроме тряпок, театра и шаромыжников ничего не признает. Ты тоже хороша. Нашла подругу. Неужели интересно сплетни ЦИК-а слушать? Она и тебя курить научит.
— Сплетни слушать действительно неинтересно, а курить можно научиться и у тебя…
— Ты никогда не смолчишь. Пришел муж усталый с работы, ворчит, ну смолчи, послушай, что он скажет, спроси, когда он в Сибирь собирается, как идет чистка московского аппарата.
— А я не понимаю, почему его надо чистить.
— Потому что у них неясная постановка вопроса о правой опасности. Они — главная опора бухаринской группы. Кстати, твоего Бухарина осмеяли на комиссии пэбэ. А Зиновьев по телефону женушке своей рассказывал, как Рютин, Угланов пришли к нему, мол, как нам действовать дальше, а он, — улыбка, расплакался. Говорит: «Я чувствую себя буквально обмазанным с головы до ног говном», и опять в рев, так они и не получили никакого совета.
— Подожди. Я не поняла. Зиновьев, это рассказывал по телефону, как же…
— Это неважно. Важно вот что. Ты превращаешься в бабу. Посиделки с Ириной, няни, дом, немножко попечатала, пошила, проверила у Васи уроки. Наденька, машинистка.
— Мне самой надоело быть машинисткой.
— Вот и иди, учись. В Промакадемию — мило дело, — он встал.
— Подожди, я хотела с тобой поговорить о Васе, о Яше.
— Мне некогда на эту ерунду тратить время, — пошел к двери.
— Тебя не интересует ни семья, ни дети.
— Пошла на хуй! — бросил, не обернувшись.
* * *— Расскажи о своем брате подробней.
— О каком?
— О том, кто болен. Какой он?
— Федор очень застенчивый и очень одинокий. Некрасивый, нет, глаза красивые… Неопрятный. До болезни он был гардемарином. Писал пьесы, статья, учился на математическом факультете. Любит моих детей.
— Твоих — родных, так надо понимать.
— Да. Именно так. У него бывают просветления. Например, он мне помогал готовиться к экзаменам.
— Ты учишься?
— Да, на химическом факультете. Моей специальностью будет вискоза.
— А Федор?
— Работает на фабрике. Забыла еще об одном мальчике. Очень хороший мальчик, живет с нами, отец умер, а мать — директор фабрики, очень занята. Федор работает у нее на фабрике.
— Как ты думаешь, от чего он заболел?
«Господи, неужели в этом кафе, заполненном нарядными жующими и пьющими людьми, под звуки джаза можно рассказать, что происходило в Царицыне…»
— Вы ведь видели Гражданскую, даже участвовали, а он в девятнадцать лет был начальником Особого отдела.
— Представляю, скольких он расстрелял, виновных и безвинных, от этого можно сойти с ума, ну, а твой пасынок тоже воевал на Гражданской?
— Он был мальчиком и жил в Грузии. Его мать умерла, когда он был грудным младенцем, и его растила тетка.
— Если хочешь, можешь называть меня «на ты».
— Не хочу и не могу.
Выпитое вино отдало не радость, а печаль, она жалела о своей ненужной откровенности и думала только, как поскорее уйти. Вид взбитых сливок с клубникой вызывал тошноту. В кафе уже было шумно, и джаз играл громко.
— Мне пора. Я привыкла рано ложиться.
— Первая неправда. Ты засыпаешь поздно, просыпаешься среди ночи и не спишь до утра. Просыпаешься от кошмаров и в первые минуты не понимаешь, явь это или сон, а потом у тебя начинает болеть голова.
— Пускай это так и есть, но я все равно хочу уйти.
— Хорошо. Сейчас пойдем.
— Я могу дойти до гостиницы сама.
— Здесь, — он подчеркнул, — здесь, так не принято.
Они шли через парк молча, но когда поднялись на освещенную площадку перед колоннадой, он сказал:
— Давай посидим немного, еще не поздно.
— Нет, нет, — испугалась она, — я не выдержу больше допроса.
— Хорошо. Я буду говорить в движении.
(Иногда его немецкий был слишком правильным).
— То, что ты называешь допросом — необходимо тебе. У нас с тобой только два пути: продолжить завтра наши сеансы или встречаться, как друзья.
— Есть и третий.
— Я понял. Но без моей помощи тебя ждет участь твоего брата.
— Я так серьезна больна?
— Ты еще не больна, но находишься в пограничном состоянии. Понимаешь граница, с одной стороны, одна жизнь, с другой — другая. Как твоя страна и Чехия. Впрочем, здесь тоже когда-то все изменится. Немцы обязательно заберут Судеты назад. Судеты — это край, где мы находимся. Это — Судеты, он обвел рукой площадь, — и это лучшее место в мире. Для меня. Я ведь чех. Не немец, не австриец, я — чех. Это для вас все мы были пленными австрийцами. Завтра утром ты пойдешь на массаж, моя ассистентка тебя проводит. Массажистка тебе понравится, если захочешь, можешь с ней говорить по-русски. У нее был русский муж, но он сбежал куда-то. Она ухаживает за моей матерью и убирает мою квартиру, захламленную квартиру холостяка.
— Мой крестный тоже холостяк, но он очень аккуратный. Иногда даже смешно до чего аккуратный, если что-то возьмешь в его доме или передвинешь, у него на лице просто страдания.
— Я его полная противоположность. Ты пьешь минеральную воду?
— Иногда.
— Надо пить. Крестовый источник, полтора литра в день, не меньше.
Они подошли к ее отелю. В открытые окна справа от входа видны были медленно кружащиеся пары. Там, в маленьком вестибюле, танцевали под патефон.
— Мой сосед по столу сказал, что танцевать очень полезно.
— Ты хочешь танцевать? — он был изумлен.
— Я не умею.
— Слава Богу, а то я испугался. Ненавижу танцы, хотя это, конечно, лучше, чем стоять в очередях за хлебом. Завтра я заканчиваю прием в три. Я бы мог показать тебе старый монастырь или одно очень интересное место здесь неподалеку, или пойти в казино, русские ведь любят рулетку…
— Я не совсем русская.
— Правда! — он сразу как-то очень молодо оживился. — Я хочу угадать, подожди, подожди…
Швейцар разглядывал их с почтительном любопытством, и она пожалела, что затеяла этот разговор.
— … в тебе есть красное, ярко красное, это не цвет коммунизма, это цыганский цвет.
— Правильно. А еще, кроме русской и цыганской, есть польская кровь, немецкая, украинская, грузинская…
— Ты уверена?
— Я знаю.
— Это же почти радуга, а все вместе — свет, луч. Вон там, за отелем «Веймар» есть маленькая улочка, называется узка, а на этой улочке маленький ресторанчик, только для своих со своим пивом, я опрокину кружечку, а ты только попробуешь, пойдем, цыганка, смотри, какая ночь, «Вы мне жалки звезды-горемыки… — та-та-та — светло горите… вы не знаете тоски и ввек не знали…» Гете.
— Гейне.
— Нет Гете.
— Генрих Гейне.
— Иоганн-Вольфганг Гете, а может, Цедлиц, только не Гейне. Так принимаешь приглашение?
— Завтра. Спокойной ночи.
— Нет, я все-таки загляну на Узку улочку, а ты перед сном прими вот этот порошочек и будешь спать, как младенец.
— «…вы не знаете любви и ввек не знали» Гейне.
— Какая разница, тоски — любви, одно и то же, — он взял ее руку и, низко наклонив голову, поцеловал в ладонь.
* * *Она сидит в приемной, между квартирой Ленина и его кабинетом. В дверях квартиры и кабинета, как обычно, стоят часовые, но она пришла не работать, ей обязательно нужно попасть в кабинет, и она занимает очередь в череде других посетителей. Их почему-то очень много, но все они незнакомы, и все на одно лицо. Что-то с длинным носом и очень черными бровями. И одеты одинаково — в темные косоворотки.
Лидия Александровна тайком делает ей знаки, чтоб шла без очереди, но ей неловко, к тому же очередь продвигается споро: человек входит и тотчас выходит, входит следующий. Она нервничает, что у нее нет с собой карандаша и бумаги, и она не сможет записывать, но попросить у Лидии Александровны почему-то нельзя.