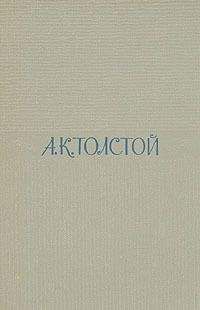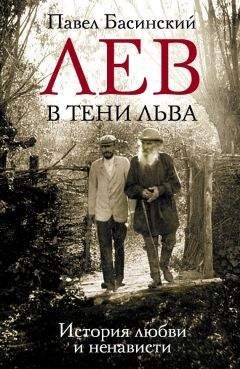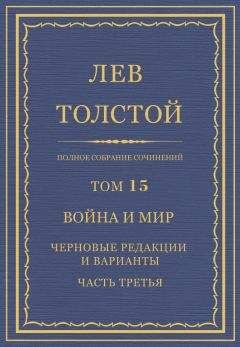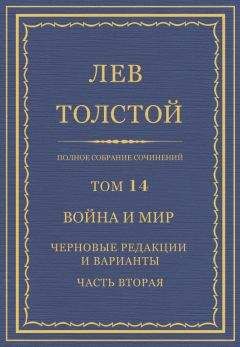Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
Заговорив об отце, он сказал:
— Что делать, он любит, зато и мучает княжну Марью, так видно надо — пауку заесть муху, а отцу заесть жизнь княжны Марьи. И она довольна. Она съест бога своего с вином и хлебом, сколько б не унижал и не мучал отец. Так надо видно.
О себе он говорил тоже. — Стоило мне только надеть генеральские эполеты, и все воображают, что я генерал и что-нибудь понимаю, а я никуда не гожусь, другие все таки еще хуже меня. Да, tout est pour le mieux dans le meilleur des mon despossibles.[3855] Taк я буду иметь удовольствие встретить твоего милого beau-frèr’a в Вильне? Это хорошо. И твою милую супругу? Mon cher, ты в выгоде, право, хорошая жена жила бы с тобою. Это еще хуже. Ну так и прощай. Или ты посидишь? — сказал он вставая и пошел одеваться. Pierre ничего не мог[3856] придумать. Ему было едва ли не тяжелее своего друга. Он хотя никак и не ждал, чтобы князь Андрей так больно принял это дело, но, увидав, как он его принял, Pierre не удивлялся.
«Однако, я виноват и во всем, во всем, я не должен это так оставить», думал он, вспоминая, каким легким представлял он себе примирение и как теперь оно казалось ему невозможно. «Однако, надо сделать всё, что я хотел». Он вспомнил приготовленную наперед речь и пошел говорить ее князю Андрею, как бы она ни была некстати. Он вошел к князю Андрею. Болконский сидел и читал какое-то письмо, лакей укладывался на полу. Болконский сердито посмотрел на Pierr'a. Но Pierre решительно начал то, что хотел.
— Помните вы наш спор в Петербурге? — сказал он, — помните о N. H.?
— Помню, — поспешно ответил князь Андрей. — Я говорил, что падшую женщину надо простить, я говорил это, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.
— André, — сказал Pierre.
Князь Андрей перебил его. — Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про всё это. Ну, прощай. Готово? — крикнул он на лакея.
— Никак нет-с.[3857]
— А я тебе сказал, чтоб было готово, а я тебе сказал, мерзавец.[3858] Вон.
— Прощай, Pierre, прости меня, — тотчас же после этого обратился он к Безухому, обнял, поцеловал. — Прости,[3859] прости. — И он выпроводил Pierr’a до передней.[3860]
Больше Pierre не видал его и не говорил Ростовым о своем свидании с ним.
Ростовы в эту[3861] весну из-за не улаживавшейся продажи дома думали ехать и не уехали из Москвы. Pierre тоже жил в Москве и каждый день бывал у Ростовых.
* № 153 (рук. № 88. T. II, ч. 5, гл. III).
<Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании, выразил сожаление о том, что император слишком увлекается своим честолюбием. Он ждал, что князь, как обыкновенно, оживится в своем озлоблении к Бонапарту и начнет желчно и резко обсуждать его поступки, но князь молчал. Метивье поговорил об испанских делах, но князь также молчал. Метивье потер лицо руками и с улыбкой, выражавшей уверенность в том, что теперь он верно достигнет цели, начал тот разговор, который, он знал, никогда не оставлял князя спокойным. Он заговорил о последних новостях нашей турецкой войны и выразил сожаление, что дело шло не так хорошо, как можно было ожидать.
— Впрочем, — прибавил он, — мне кажется, русская политика направлена теперь не на восток, а на <запад, что, как говорят, гораздо> благоразумнее.
Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море.
Метивье, достигнув своей цели, чуть заметно самодовольно улыбнулся.
Вдруг князь замолк и устремил прикрываемые отчасти бровями злые глаза на доктора. «Кому говорю всё это?» вдруг подумал он. «Французу, рабу Бонапарта. И зачем я стал говорить это. Зачем он подделывался ко мне?» И лицо, и улыбка Метивье и интерес, с которым он слушал, показались ему вдруг оскорбительными. «Он заставил меня говорить. Он играет со мной. И кто? Со мной этот французишка...»
Все эти мысли в одно мгновенье промелькнули в его голове и разразились следующими словами, сказанными сдержанно бешеным голосом.
— За визиты благодарю <вас> господин, за <ваши> визиты. Дворецкий заплатит <сейчас>. Прошу не ездить больше. <Меня> раздражаете. Прощайте. Идите...
<— Я не понимаю>, — с тихим удивлением <начал Метивье>
— Не понимаешь? — кричал князь. — А я понимаю. <Ты> шпион. Французский шпион. Бонапартов раб, вон из моего дома, вон, я говорю. — Князь одной рукой звонил, другой <угрожающим жестом> указывал на дверь.
Метивье, пожав плечами, <вышел. Княжна Марья и M-lle Воurienne <встретили его в соседней> комнате.
* № 154 (рук. № 88. Т. II, ч. 5, гл. V).
Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыхание. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга, как на единственных людей в мире равнодушных, понимавших один другого и тщету радостей жизни.
<Так продолжалось две недели. Обоим становилось неловко.[3862] Жюли очевидно уже не интересовала любовь к гробнице, а интересовал вопрос, когда и как он сделает предложение. Борис уже не мог сочувствовать смерти, так как уже в голове его совершенно созрел план о том устройстве новой жизни, которую он поведет с тремя тысячами душ, которые должны получиться за невестой. <Нужно было сделать что-нибудь несообразное. Отречься от меланхолии и поговорить о деле.>
Однажды Борис приехал утром и привез меланхолическую книгу. Но пузырь меланхолии совершенно созрел, лопнул и из него неожиданно показалось другое.
— Жюли, я вас люблю, как лучшего друга, хотите вы быть моей женой?
— Борис! — сказала Жюли и протянула ему руку.>
* № 155 (рук. № 90. T. II, ч. 5, гл. XII).
По воскресеньям Марья Дмитревна ездила в остроги и тюрьмы, выкупая должников и отвозя узникам съестные припасы. Она никогда не говорила никому, куда она ездит, хотя трудно было скрыть от света то добро, которое она делала не только по острогам и тюрьмам, но и всем бедным просителям, которые приходили к ней по будничным дням.[3863]
— Или тебя взять с собой? — сказала Марья Дмитревна, вставая и обращаясь к Наташе.
— Как хотите? — сказала Наташа, вставая тоже.[3864]
— Ну, поедем кататься, надевай шляпку. — Марья Дмитревна посадила Наташу на первое место, направо, отодвинула сама кульки, лежавшие в[3865] санях, себе под ноги и, вытянувшись в струнку,[3866] с строгим[3867] лицом сидела на левой стороне.[3868] Они проехали молча одну улицу.
— Хорошо тебе сидеть? — спросила Марья Дмитревна.
Ей видно хотелось поговорить, и ласковая улыбка играла на ее суровом лице.
— Очень хорошо-с.
— А ты[3869] облокотись, так, на спинку облокотись, — сказала Марья Дмитревна. — Ничего, ничего, облокотись, — настаивала Марья Дмитревна. Как ни неловко было Наташе сидеть,[3870] облокотившись на далеко отстоящую спинку, она чувствовала, что это была милость со стороны Марьи Дмитревны, и исполнила ее волю.[3871]
— Что же, весело было третьего дня в театре? — спросила Марья Дмитревна.[3872]
— Да, весело, — невеселым голосом сказала Наташа.
— А ты не грусти,[3873] Наташенька, я бы нынче поехала, кабы не воскресенье, я завтра сама к нему, к князю Николаю поеду. Я с ним переговорю.[3874]
Наташа ничего не отвечала. Марья Дмитревна тоже замолчала. Когда уже стали подъезжать к острогу, Марья Дмитревна опять круто оборотилась к Наташе.
— Что же хорошо тебе сидеть? Тут я заеду в одно место, — сказала Марья Дмитревна. — Тебе я скажу, да только уговор: не болтать. — Видно было, что Марья Дмитревна не могла удержаться, чтобы не сообщить своей любимице — Наташе того удовольствия, которое она испытывала[3875] теперь; но что она вместе с тем осуждала себя за это.
— Тут вот в остроге иногда очень жалкие люди бывают, ну, да и все они несчастные — не нам их судить. Так вот, я им разной дряни — там остается что и свезу. Не то чтобы благодеянье это какое было с моей стороны, а так, как я одна, состоянье имею, отчего же мне не пожалеть их.
— Ну, чур, молчать. Ты посиди, а я сейчас вернусь.
Почтительно встречаемая смотрителем, Марья Дмитревна вышла из[3876] саней одна. Через несколько минут она вышла оттуда и поехала в долговую тюрьму, где она пробыла дольше, и, выходя оттуда, имела особенно строгий вид.