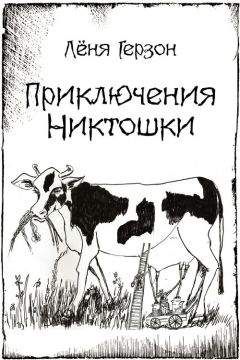Василий Нарежный - Избранное
Вскоре от весей соседних притекли пастыри и земледельцы отчаянные. С бледными лицами взирали они на огнь и простирали к нему руки, не имея других орудий к погашению. Они как бы умоляли его сжалиться над их хижинами, вблизи стоявшими. Гломар, приближась к ним на коне своем, вещал гласом угрожающим:
«Несчастные клятвопреступники! не господствует ли днесь союз мира между Туровом и Муромом? Не братская ли дружба заключена искони между владыками обоих княжеств? Почто же дерзнули вы вопреки условий пустить чрез рубежи свои вепря лесов Туровских и тако лишить нас славной добычи, а князя нашего желанного им увеселения? Вы еще не наказаны; если зверь, укрывшийся в дубраве сей, не будет вамп живой или мертвый доставлен на границы наши, мщение жестокое, но праведное, постигнет тогда вас, жен и детей ваших!»
Мы оставили пораженных ужасом муромцев и с веселием пустились в обратный путь. Я не мог довольно возблагодарить мудрому другу моему, Гломару, за открытие толико близкого и надежного пути к храму воинской славы. С нетерпением юноши, когда он под кротким небом ночи майской, преклонясь к тополу серебристому, при каждом колебании ветвей его приятно содрогается, мня видеть идущую к нему его возлюбленную, давно ожидаемую: с таким точно нетерпением ожидал я послов от Миродара, князя Муромского. По велению моему рубежи туровские уставлены были полчищами юношей ратных; весь град наполнился звуком мечей, щитов и копий; везде раздавались песни победные, и я впервые опочил с сладостным биением сердца, мня вскоре видеть себя в венце победы.
Послы муромские не замедлили явиться на дворе моем; то были: старец, коего белая брада означала уже преклонность века, и два юноши в льняных одеждах, полувооруженные. Каждый из них имел по единому легкому копию, острием к земле обращенному.
Старец вещал мне: «Повелитель страны Туровской!
Вина прихода нашего тебе известна; что угодно тебе: вонзить ли копия сии в землю, сокрушить ратовища и тако обнаружить добрый мир между народами; или острия их воздвигнуть кверху и дозволить брани насытить алчную челюсть свою трупами падших воителей? Ты разорил часть владений наших; пожег пашни и хижины; священная справедливость требует да воздать должное обиженному.
Миродар предает в волю твою: выдай нам три литры злата чистого или готовься встретить бурю военную. Народы отдаленные увидят тогда, куда промысл вышнего склонит перст победы!»
Речь сия, от лица владыки Муромского ко мне произнесенная, наполнила сердце мое восторгом радости. Гломар дал мне знак, и я принял вид гневный, раздраженный.
«Безрассудный старец!» — воззвал я с тесового крыльца своего. — Кто может предписывать мне законы, не испытав прежде крепости мышцы моей! Война кровопролитная да решит прю мою с Миродаром!» Послы подняли вверх остриями копья свои и медленно направили обратный путь. Тогда Гломар, осклабя уста свои, вещал:
«Юный повелитель! не известны тебе хитрость и коварство Миродаровы. Познав, что ты ищешь состязаться с ним оружием, он мало-помалу будет понижать бесстыдные свои требования и тако отдалять минуту, когда должен ты венчаться венцом славы бранной. Благоразумие требует, да одним движением перста твоего пресечешь ему пути к миру, единому прибежищу для владык слабых».
Он воете к спешно на коня своего и устремился со двора княжеского. Ратная дружина ему последовала.
Вскоре узрел я паки верного Гломара. Послы Миродаровы отягчены были оковами. Тщетно вопияли они о правах своих, нарицая их божескими. Ревностный друг мой не внимал буйным их умствованиям, и мрачная темница сокрыла их от праведного наказания за дерзость, оказанную ими в моем присутствии.
Свершив дело сие, я и воинство мое остаток дня провели в приготовлении к пути на брань свирепую. Раннее солнце озлатило шлемы наши вблизи рубежей граничных; к полудню хоругви наши развевались от воздуха муромского: толико спешно было шествие юношей, ищущих славы себе и своему повелителю.
С радостным предчувствием сердец вступили мы в землю враждебную и, не обретая никого, могущего нам сопротивиться, продолжали свое шествие. Внезапно небо померкло от стрел свистящих; топот и шум, треск и крик раздались отвсюду, и мы узрели себя окруженных ратию муромскою. Сеча была жестокая; кровь обагрила землю злачную. Всадники мои падали стремглав с коней своих; изнеможенные утоляли жажду из ручья, текущего кровию друзей и неприятелей. Подобно вепрю уязвленному, вращался я во все страны; наконец конь мой пал, и я ощутил рану в бедре моем.
«Судьба неправосудная! — вскричал я в полной ярости своей, — неужели должно мне обратиться в бег постыдный?»
Собрав последние силы, оградясь щитом и воздвигнув меч, пробил я ряды вражеские и достиг рубежей туровских. Едва довлекся я до явора тенистого, силы меня оставили, меч и щит исторглись из рук моих, я пал на землю, и очи мои смежились бесчувствием. Падшая роса вечерняя раздражила рану мою; воспрянул я от сна смертного и окрест себя познаю Гломара и некиих из друзей моих. Огни возжены повсюду; ратники, разделенные на несколько дружин, возлежали на холмах и припекали рапы тяжкие. В недальнем от меня расстоянии узрел я трофеи, составленные из одежд и оружий муромских; у ног моих стояло довольное число витязей вражеских, в одеянии блестящем; руки их скреплены были вервиями.
«Праведное небо! — воззвал я, обратись к Гломару, — что значит все, мною зримое? или полчища мои?» — «Юноша неопытный! — ответствовал Гломар, заключа меня в объятия, — полчища твои рассеяны, как рассевается прах под крылом ревущего вихря, и се зришь ты остатки их на холмах. Но почто народу твоему знать участь, тебя постигшую, когда она неблагоприятна? Чело войны изменчиво. Сей раз воззрела она к тебе кровавым оком негодования за столь долгое твое бездействие; в другой раз осклабит к тебе уста свои, как невеста к жениху. Познай, что совершил я и что свершить намерен: муромцы, видя пас, одних поверженных, других рассеянных, спокойно направили путь к своей столице. Едва удалились они, я остановил ряды свои, собрал остатки воедино и паки обратился на поле битвы. По моему велению, все мертвые и раненые муромцы обнажены от одежд своих; оружие их тщательно собрано и, соединенное с оружием падших турян, воздвигло сей курган высокий.
Тогда устремляюсь я к веси соседственной, похищаю старцев, юношей и пастырей безоружных, облачаю их в одежды знатных муромцев, коих лица представят они при торжественном вшествии твоем во град престольный. Уже посланы гонцы возвестить в нем твою победу и скорое возвращение».
Облобызал я Гломара, друга верного и вождя опытного. К ране моей приложено зелие целебное. Вся ночь прошла в беседе об ужасах дня минувшего. Наутро мы в торжестве двинулись к Турову; на третий день узрели высокие башни его.
Радостный вопль народа, мешаясь со звоном бубнов и кимвалов, колебал воздух. Старцы, юноши, жены и девы туровские вышли нам во сретение и усыпали путь цветами по моему велению; захваченные пастыри муромские — да не возвестят народу тайны сей победы — всенародно преданы острею меча. Взошел я в свои палаты белокаменные, и широкий двор мой покрылся пиршественными столами для воинства и народа. Яствы и пития были обильные; победные песни юношей услаждали слух мой. Торжественные огни воспылали на стогнах градских; упоенный радостию, возлег я на ложе свое. Колико сладостна мысль и о победе мнимой! Что же чувствует истинный победитель?»
Вечер XI
«Недолговременно было торжество мое. В часы той же ночи, при свете месяца полного, узрел я окрест себя тысячи теней окровавленных. Померкшие, свинцовые очи их ко мне обращены были. Тени простирали персты с угрозами, открывали изъязвленные перси и глухим, могильным гласом шептали: «Мы невинные муромцы, падшие под острием мучительного меча твоего! Кровь наша не отмщена еще!»
Хладный пот оросил чело мое. Члены мои отяжелены, как бревна дубовые. Мозг в голове моей превратился в лед.
Мало-помалу начинаю ощущать биение своего сердца и, укрепясь бодростию, вопрошаю с гневом: «Чего хощете вы, ужасные изверги мрачного ада?» — «Твоего мучения!» — было мне ответствовано. Не прежде избавился я от сих мрачных духов-мстителей, как по явлении в чертоге моем зари утренней.
Но почто, праведный старец, удручать слух твой, обыкший внимать пению херувимов, обильным повествованием моих горестей? С ночи той ужасной до сего времени враги мои меня не оставляют. В каждую ночь, едва возлягу я на ложе свое, они являются и время от времени становятся дерзостнее, неукротимее!
Бедствие мое поведал я верному другу моему, Гломару; удивление его было несказанно, и он вину всего возложил на мое малодушие. Изнемогая под тяжестию скорби, обтек я тщательно все храмы туровские, щедро раздавал дары обильные на украшение ликов угодппчьнх. чая получить и не получая облегчения.