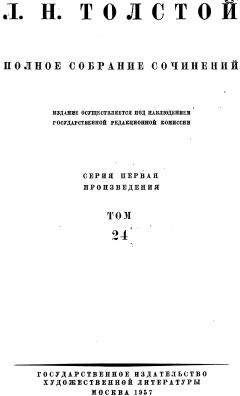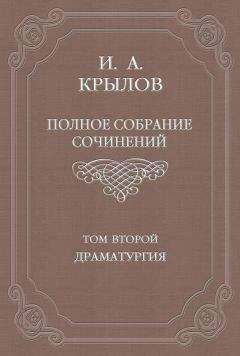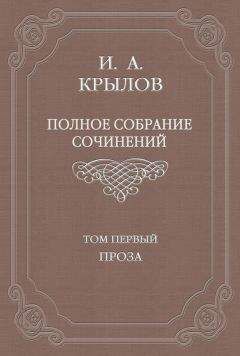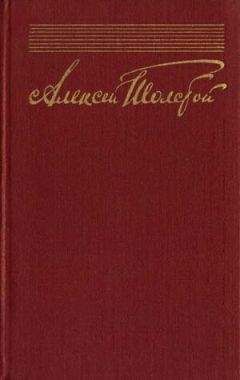Виктор Миняйло - Звезды и селедки (К ясным зорям - 1)
Проголосовали дружно. Даже хозяева, озираясь по сторонам, нехотя друг за другом поднимали руки. Замешкался только Никола Фокиевич.
- Тубол, - прикрикнул на него Ригор Власович, - ты что ж, против? Ай-яй-яй!.. Ох, зайду посмотреть еще, как у тебя с пожарным оборудованием, где керосин держишь...
Никола Фокиевич поднял сразу обе руки.
- Единогласно, - сказал Полищук. - И даже более того.
Выбирали правление и ревизионную комиссию новообразованной потребительской кооперации. Я и опомниться не успел, как меня назначили главным ревизором.
- Я за Ивана Ивановича, - сказал Ригор Власович. - Он хотя и интеллигенция, но настоящий революционер. Он никому не позволит обкрадывать наш пролетариат.
Признаться, мне было очень приятно услышать это о себе из уст нашего сельского предводителя.
Закрывая собрание, Ригор Власович сделал такое объявление:
- Гражданин бывший помещик Бубновский, Виктор Сергеевич! Пришла директива из уезда, чтобы вам работать в нашей волости агрономом. А жинка ваша, потому как она институтка благородных девиц, пускай у нас в школе работает учительшей. Чтобы Ивану Ивановичу с Евфросинией Петровной вышло облегчение. Да смотрите мне - чтоб учили по-правильному! Иначе...
Вот этого, признаться, я меньше всего ожидал. Да, не ожидал я такого поступка от ортодоксального революционера Ригора Власовича. Чувствую, что большая перемена в судьбе Нины Витольдовны произошла по его инициативе. Да, этот угрюмый и замкнутый парень не так уж прост!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой автор рассказывает, как Степан
клянется перед образом пресвятой богородицы, чего, пожалуй, не
сделал бы никогда, не будь для этого достаточных оснований
Со сходки София и Степан шли молча. Со стороны казалось, что Степан старается убежать от Софии - несся вперед, а она едва успевала за ним.
- Ой, не беги так! - тихо окликала женщина. - Сил больше нет...
Степан даже не оглянулся, но шаг замедлил.
София поравнялась с ним, вытерла краем платка раскрасневшееся лицо, сказала, не поднимая глаз:
- Ну и народ же! Живоглоты!
Взглянула на обиженное, мрачное лицо Степана и добавила несмело, но убежденно:
- Надо ж было тебе!.. Они ведь как осы! - и успокаивающе положила руку на его локоть.
Степан медленно повернул к ней лицо. Губы у него дрожали.
- Брось горевать... Степа! - И София порывисто прижалась к нему и сразу же отстранилась: выбежали все хаты, выстроились в ряд и с любопытством уставились на них окнами.
А то, что Степан до сих пор не ответил ей, обижало ее гордость женщины и хозяйки: "Ишь, наймит, а туда же!.." И то обстоятельство, что ей приходилось скрывать свою нежность и стыдиться ее, сначала встревожило Софию, а потом рассердило.
- А, все вы!.. - сказала она резко. - Ну, чего было встревать не в свое дело? Ригор, так тот все за свою коммунию да мировую революцию. А вам-то какого рожна?..
- А такого, хозяйка, - чеканя слова, ответил Степан, - что я тоже воевал за коммуну! А если и нанимался к вам, то совесть не продал!
- Ой, да кто тебя нанимал!.. - вырвалось у Софии. - Божья ты овечка, мил человек!.. - И она надолго умолкла. И так ей стало жаль себя, что на глазах выступили слезы, а губы задрожали от сдерживаемого плача.
- Вот как... вот... Меня променял на коммунию...
Ее всю так и трясло.
Когда пришли домой, велела строго:
- Готовьте косу да грабли. Во вторник пораньше поедем в поле. Да кляп для свясел сделайте мне такой, чтоб скользил в руке.
Степан глянул на нее искоса, помолчал немного, вздохнул.
- Пожалуй что, ищите косаря себе, хозяйка. Уйду я от вас.
- Куда? - спросила она и усмехнулась - слегка пренебрежительно, с сожалением, насмешливо.
- А это мое дело.
- Так, так... А какое мне до вас было дело, мил человек, когда вы богу душу отдавали, да только Сарка Шлемиха вас пожалела, - какое мне было дело?.. И зачем мне было вас выхаживать, да откармливать, да сорочки ваши стирать, да, извиняйте, вшей выводить?
- Я отработал вам.
- Заработал, отработал... А душевность человеческую разве отработаешь?
- Дорога ваша душевность!
- Зато благодарность ваша дешева! А и обнимали, и целовали, да трясло вас, извиняйте, как цыгана на сорок святых!
И, уперев кулак в бедро, выпятив грудь, София прошла мимо него, да так, что ветром обдало.
Степана бросило в пот. Должно быть, права София... Неблагодарный он, ничего не скажешь. Иль не кормила тебя сытно, иль спать выгоняла в поветь, иль ходил пропахший потом в темных рубахах? Иль, может, эта женщина и от смерти тебя не спасла? Иль, может, сам не мечтаешь о ней страстно, не горишь огнем, чувствуя ее сонное дыхание в одной комнате?
Но вспомнил расплющенные от хохота лица богатеев, когда на сходке сбрасывал ее пиджак, и снова бунтовала душа - уходи от нее куда глаза глядят, красноармеец, коммунар! И даже страсть была ему укором, раскаивался - почему не взял ее силой, почему не сбил ее хозяйскую, женскую спесь, не усмирил, как дикую кобылицу?..
Но куда там! С такой и кузнец не справится!
И оттого, что оставалась она неприступной, была для него во сто крат желаннее.
Нашептывал коварный бес: "Доможешься, тогда и уйдешь!.."
А для этого надо было покориться ей. И, уже не думая ни про благодарность, ни про добрую память о себе, а только про свой мужской гонор, про будущее свое торжество и праздник, почти с радостью решил Степан поддаться.
Пошел в хлев, где София доила овечек, постоял недолго у нее за плечами, кашлянул.
- Вы, София, - впервые назвал ее по имени, - не сердитесь. Погорячился я...
Она повернулась к нему всем телом, вытерла ладони о фартук и широко улыбнулась:
- Куда ж ты от меня уйдешь? Никуда не уйдешь! - И снова начала спокойно доить.
Немного погодя, чтобы не обидеть его, сказала:
- Вот и хорошо. Хорошо, когда по-мирному... - И с осознанным чувством обретенной власти над ним приказала: - Подкинь-ка овечкам объедьев от коровы!
Так снова наступил между ними мир. Но это был уже недоверчивый мир, невыгодный для Степана. София будто отдалилась от него, замкнулась в себе. И мало-помалу острая тоска по ее ласке становилась для него мукой.
Все эти дни Степан только и думал о ней. Слышать ее голос, видеть ее лицо, перехватывать взгляд серых глаз - становилось для него ежеминутной потребностью. Истома подступала к сердцу, когда поблизости находилась София. И сразу становился веселее, стоило ей лишь пройти мимо. А София и не напоминала про те минуты, когда сама была нежнее, мягче, сговорчивее, почти беззащитной.
Наступила жатва.
Выехали во вторник, когда еще просыпалось утро. Можно было бы и в понедельник, но суеверная София не хотела начинать в "тяжелый день".
Яринку оставила по хозяйству дома, хотя она и протестовала против этого. София никак не могла понять ее, все еще считала дочку ребенком, а та - наоборот - видела себя уже взрослой, а все взрослые в поле!
Однако Яринке пришлось остаться с курами, утками, свиньей и поросятами, с коровой и теленком, с овечками, с ненасытным Кудланем да со шкодливым котом.
Делянка была верстах в четырех от села, примыкала к половецким полям.
София сидела сзади на связках перевясел из рогозы. Круглые ее колени упирались Степану в спину, и это не было ему в тягость, наоборот - всем телом чувствовал не только их, но и всю Софию, ее могучую женственность, ее попусту потерянные вдовьи годы.
Сладостный трепет пробегал по его телу, и ему очень хотелось, чтобы она тоже это почувствовала, ведь не каменная ж она баба, наверно, нет.
А может, она равнодушна к нему? Может, переполнена своим радостным чувством хозяйки, и в глазах у нее тихое поле, да первый взмах косы, да тяжеленные снопы, полукопны, а потом заполненная пахучими снопами клуня? Скорей всего, так. Потому что сейчас наибольшая радость хлеборобская святой хлеб...
Серо-желтые лошадки будто бы не бежали, а безучастно бросали копыта на пыльный проселок, словно отталкиваясь от земли, а дорога безостановочно надвигалась на них, как упрямая жена - то одним, то другим боком - на мужнины кулаки: вот тут, мол, еще не бил, вот тут и вот тут...
И жгла Степана горячая тоска, предутренняя грусть о таинственной ночи, о ласке, которая обошла его. Затянул какую-то песенку, красивую и печальную, чтобы женщина за спиной, услышав, прониклась его настроением, его терпкой тоской.
- Как хорошо ты поешь! Ой хорошо! - крикнула София над ухом Степана и положила ему руки на плечи.
Благодарно погладил ее руку, и женщина не отняла ее, и он был счастлив - понял: сердца на него не держит. Он ласкал шершавые ее пальцы, они были теплыми и доверчивыми, но и властными - держали его крепко, надежно, не выпустят никогда. И бунт его показался теперь Степану бессмысленным и ненужным. Покорившись ее рукам, будешь иметь все: красивую и верную жену, свою хату, свое поле, тепло и уют. А то, что ты воевал, Степан, останется в твоем сердце, ведь это существует помимо тебя, будешь жить ты или умрешь. Твое счастье не помешает революции, за это ты и дрался - не для кого-то, для себя.