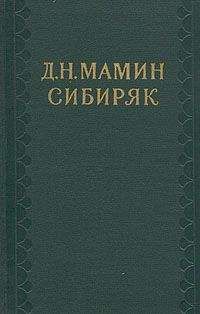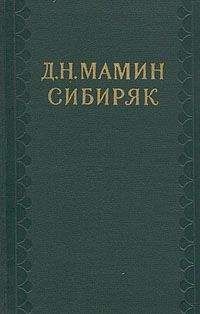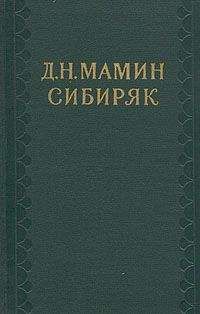Дора Штурман - Городу и миру
Обществу всегда (и чем оно свободнее, тем более, ибо в свободном обществе человек в большей мере влияет на качества жизни) необходимо "повышенное внимание ко внутренней нравственной жизни человека". Но и необходимые "внешние общественные преобразования", запаздывая или исключаясь, создают напряжение, требующее эскалации принуждения и чреватое катастрофой. Солженицын вернется к этому и в публицистике, и в своей эпопее, в которой отсутствие оптимального соотношения между назревшими реформами и охранительством станет одной из главных проблем. В "Образованщине" (и в частности, в этом отрывке) проблематика, связанная с действиями царского правительства, отсутствует. Здесь речь идет об интеллигенции. И здесь возникает нетривиальный для большинства наших современников взгляд, который тоже получит развитие и в публицистике, и в "Узлах": самоотверженное стремление российской интеллигенции XIX и XX веков к немедленным исчерпывающе радикальным реформам или (что было еще желательней) к революции не было полезным ни России, ни самой интеллигенции. В огромной степени усилиями (желавшей только добра) интеллигенции (о винах противной стороны конфликта и о прочих обстоятельствах катастрофы речь в других местах) была взорвана структура, медленно, с рецидивами реакции, осложненно, но тем не менее неуклонно переживавшая продуктивную раскрепостительную эволюцию, структура открытая, а не закрытая, отнюдь не исключавшая конструктивной деятельности по своему улучшению. В хаосе, который возник после февральского взрыва (для Солженицына - катастрофического, а не спасительного, как - по сей день для многих авторов), интеллигенция, исключая свое большевистское крыло, проявила полную неспособность к "реальным государственным действиям". В кратчайшей, сверхлаконической форме очерчена здесь Солженицыным судьба российской интеллигенции перед Февралем, в Феврале и в гражданской войне. Кульминация этой трагической судьбы дана в двух строчках: "Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управить ее обломками" (выд. Д. Ш.).
Не только интеллигенция: раскачивали ("Узлы", как и многие труды первой эмиграции, покажут это) и справа, и сверху. Но преобладающая часть интеллигенции положила на это все свои силы, странно ослабнув и одряхлев, как только на ее плечи рухнула столь желанная прежде власть. Только одна партия по-настоящему готовила себя к этой власти и в удобный для того момент перехватила ее из безвольных рук, надолго внушив нам отвращение и к партийному сектантству, и к партийной организации, и к неутомимой целенаправленной пропаганде, и к сочетанию легальной деятельности с нелегальной - ко всему, что составляет всепобеждающую стратегию и тактику этой партии.
Вспомним: защищая "Письмо вождям", Солженицын замечает, что тоталитарные режимы всегда рождаются из слабых демократий (слабее и слепее февральской - некуда), а не из авторитарных систем. Но в России начала 1917 года взорвалась - рухнула без сопротивления в небытие - именно авторитарная (хотя и весьма либерализованная) система, не сумевшая себя защитить, а все остальное явилось последствием этого взрыва. Не правомерен ли вывод, что авторитаризм, не способный своевременно, гибко и твердо сочетать реформы и охранительство, стабильность власти и продуктивные контакты с активной общественностью, не менее взрывоопасен (а значит, и тоталоопасен), чем слабая демократия?( И не является ли оптимальным выходом сильная демократия, не противопоказанная и просвещенной монархии, и республике?
Противник факта эмиграции из СССР в наши дни, Солженицын пишет о наших предшественниках:
"Заграничное существование, в бытовом отношении много тяжче, чем в прежней ненавидимой России, однако отпустило осколкам русской интеллигенции еще несколько десятилетий оправданий, объяснений и размышлений. Такой свободы не досталось большей части интеллигенции - той, что осталась в СССР. Уцелевшие от гражданской войны не имели простора мысли и высказывания, как они были избалованы раньше. Под угрозою ГПУ и безработицы они должны были к концу 20-х годов либо принять казенную идеологию в качестве своей задушевной, излюбленной, или погибнуть и рассеяться" (I, стр. 86).
Не оправдан ли сохранением "простора мысли и высказывания", утраченного на родине после прихода к власти большевиков (этот простор и до февраля был весьма существенным), факт политической эмиграции? Можно ли переоценить историческую важность для России и мира "нескольких десятилетий оправданий, объяснений и размышлений", выпавших на долю эмигрантов первой волны, наследие которых еще не собрано и не изучено нами (вторыми и третьими), не получено родиной и не освоено Западом? Вся эта работа у россиян еще впереди.
Солженицын пишет о доле тех, кто не ушел в изгнание:
"То были жестокие годы испытания индивидуальной и массовой стойкости духа, испытания, постигшего не только интеллигенцию, но, например, и русскую церковь. И можно сказать, что церковь, к моменту революции весьма одряхлевшая и разложенная, быть может из первых виновниц русского падения((, выдержала испытание 20-х годов гораздо достойнее: имела и она в своей среде предателей и приспособителей (обновленчество), но и массою выделила священников-мучеников, от преследований лишь утвердившихся в стойкости и под штыками погнанных в лагеря. Правда, советский режим был к церкви намного беспощаднее, а перед интеллигенцией приопахнул соблазны: соблазн понять Великую Закономерность, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу - осознать самим, сегодня, толчками искреннего сердца, опережающими завтрашние пинки конвойных или зашеины общественных обвинителей, и не закиснуть в своей "интеллигентской гнилости", но утопить свое "я" в Закономерности, но заглотнуть горячего пролетарского ветра и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших - второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Еще бы не увлечься!.. Этим ретивым самоубеждением были физически спасены многие интеллигенты и даже, казалось, не сломлены духовно, ибо с полной искренностью, вполне добровольно отдавались новой вере. (И еще долго потом высились - в литературе, в искусстве, в гуманитарных науках - как заправдошние стволы, и только выветриванием лет узналось, что это стояла одна пустая кора, а сердцевины уже не было.) Кто-то шел в это "догонянье" Передового Класса с усмешкою над самим собой, лицемерно, уже поняв смысл событий, но просто спасаясь физически. Парадоксально однако (и этот процесс повторяется сегодня на Западе), что большинство шло вполне искренно, загипнотизированно, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи: огненнокрылыми казались ей истины торжествующего марксизма - и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья. (Вспоминаю как анекдот: осенью 1941, уже пылала смертная война, я - в который раз и все безуспешно - пытался вникнуть в мудрость "Капитала".) (I, стр. 86-87. Курсив Солженицына).
И верно - "несли нас те крылья". И Запад в его левой и левоориентированной части по сей день "несут". И миллиардные толпы в остальных частях мира. Пожалуй, здесь несколько неуместен сарказм, ибо речь идет о трагедии. Многие из нас пытались "вникнуть в мудрость 'Капитала'". Кстати, хорошее знание марксизма весьма обогащает творчество Солженицына обоснованностью отрицания коммунизма. Тяготение к марксизму, его исповедание стали религией существенной части международной, в том числе и российской, интеллигенции задолго до Октября. И все соблазны, перечисленные Солженицыным в этом отрывке, переживались и частью старой, и большинством новой, пооктябрьской, советской интеллигенции искренне, самозабвенно, вполне всерьез! Не писал ли тогда Пастернак:
"Столетье с лишним не вчера, но сила прежняя в соблазне - в надежде славы и добра смотреть на вещи без боязни. Хотеть, в отличье от хлыща в его существованье кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком"? (выд. Д. Ш.). Это - не загипнотизированность извне - это собственное всемирное интеллигентское столетиями вызревавшее мировоззрение, и по сей день далеко не для всех развенчанное опытом. Даже и не для всех участников этих многократных опытов: у нас или у вас не получилось, но значит ли это, что не может получиться в принципе? Самым большим соблазном для многих и многих остался лежащий в основе социализма (коммунизма) догмат продуманного, сознательного, рассчитанного, как в технике, конструирования правильных, справедливых общественных отношений. Кому, как не профессиональному работнику умственного труда - интеллигенту, прежде всего, поддаться такому соблазну? Его гипнотизирует сам догмат, а потому - и оперирующая этим догматом сила.