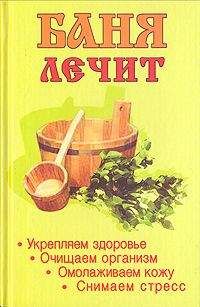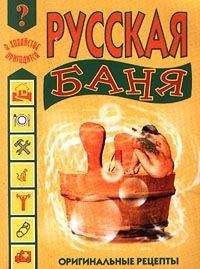Александр Куприн - Голос оттуда: 1919–1934
А там замелькает навстречу глазам деревня. Серые каменные дома под красной черепицей. Белые стены, сплошь увитые плющом. Яблони, груши и сливы перегнулись на улицу тяжелыми кривыми ветвями. Островерхая башенка церкви вдалеке. Разнообразная зелень огородов. И опять простор, и опять пленительный свод тополей над головами. Воздух крепко и сладко напоен запахом деревьев и трав.
Вот мы и в Мэри. Нас встречают у ворот младшие мальчики. Это — последыши. Их осталось всего пять. Остальные уже вылетели из гнезда на самостоятельную жизнь. Эти пятеро живут еще в колонии, но ходят учиться в коммунальную школу. Окончат ее — и вместе с ними окончится жизнь колонии. Одеты свободно и просто… Белые, английского фасона рубашки с длинными галстуками заправлены в короткие синие штанишки, кушаки ловко стягивают талию. Меня с ними знакомят.
Вот — комвод Никита. Круглая рыжая голова низко стриженна, свежее славное лицо все пестрит веснушками. Сытое воронежское тело крепко сбито. Вот Юра, сын летчика, сентиментальный и нежный мальчик. Вот Коля, художник по призванию. Он охотно показывает мне свой последний рисунок: юноша-всадник в богатырском шишаке, с мечом в руках скачет на неимоверно огромном белом коне. Внизу же надпись: «Привадитель шайки разбойникав». Вот Егор, степенный парнишка, любитель сельского хозяйства. Озабоченно сообщает он, что один утенок куда-то пропал и никак его не найти. Вот Имрик, бойкий калмычонок, он идет первым в коммунальной школе. Наконец, Федя. Его отдали в колонию, как в санаторию, после болезни. Он поправился, но, к сожалению всей школы, не хочет толстеть.
До обеда глава школы Б. А. Подгорный показывает нам все хозяйственное обзаведение колонии. Мальчуганы сопровождают нас, веселые и непринужденные, как молодые фокстерьеры.
Дом — бывший монастырь. И снаружи, и внутри в нем еще сохранился готический стиль. Все чисто и бело. Только дубовые лестницы с широкими перилами и точеными балясинами величественно и резко чернеют. В прежнем рефектуре спальня мальчиков: кровати и столики. У ребятишек теперь общее увлечение: украшать свои столики на манер солидных письменных столов, как у взрослых.
Большое хозяйство. За проволочными загородками множество кур. Откуда-то слышится хрюкающий свиной бас. Внизу, в тенистой ложбинке, копошатся около лужи гуси и утки. Прибегает коза с выпученными светлыми глазами, ласкается, трется мордой, трясет бороденкой. Гуляют с нами и два длинноногих гусенка. Степенный Егор поясняет: «Они с другими гусями не водятся, а только с людями. Из рук едят».
Понемногу появляются и старшие, уже окончившие, бывшие ученики. Тут следует привести несколько цифр.
До 1 июля 1924 года в колонии нашли приют шестьдесят четыре мальчика, из которых только четырнадцать имели одного или двоих родителей.
Вот воспитательные итоги:
Один окончил русскую гимназию в Париже. Трое перешли в шестой класс чешской гимназии (Моравская Тржебова), четверо окончили парижскую сапожную школу, трое вышли из этой школы, не докончив учения, трое уехали на родину. Пребывание остальных (имеющих родителей) носило временный характер.
Но главная, основная масса молодежи — двадцать два человека — прошла обучение в техническо-механической школе Рашель.
Эта замечательная, великолепно оборудованная школа, подготовляющая искусных мастеров высшего порядка, — дело энергии и щедрости Л. М. Розенталя, никогда не устающего широко жертвовать на воспитательные и образовательные цели и уже так много сделавшего для беженских детей.
Питомцы колонии обучались в этой школе бесплатно и все время — как приятно это отметить! — шли в первых рядах по успехам. Прошлой зимой министр труда, посетивший школу Рашель, обратил внимание на то, что на почетных досках, куда вносятся имена отличнейших учеников, чересчур много фамилий — целых десять — кончается на «ов». «Это кто такие?» — спросил министр. Ему объяснили: русские. «Гм… — сказал министр, — мне будет приятно, если к следующему моему приезду будет на доске такое же количество учеников-французов». А присутствовавший при визите министра Л. М. Розенталь сказал на это: «Им стоит только последовать примеру русских».
Руководители школы мне рассказывали о том, что, самым тяжелым испытанием для их молодежи были именно эти годы технической подготовки. Мальчикам приходилось вставать в пять с половиной часов утра. Наскоро попив чая и закусив, они ехали по железной дороге, оттуда по метро в школу. Возвращались в Мэри очень поздно и, едва успев поужинать, ложились спать. Железную дорогу оплачивала администрация школы; на завтрак в городе и на метро выдавалось на руки каждому по четыре франка. Молодым людям приходилось недосыпать и есть как бы на ходу. Однако из двадцати двух ни один не упал духом, не пропускал уроков, не отлынивал под видом болезни. Знал, что учиться необходимо. Кроме этих двадцати двух, шестеро окончили школу Рашель, а один еще учился там.
Зато теперь все двадцать два очень хорошо устроились. Каждый из них вырабатывает около тысячи франков в месяц. Живут они в Париже, большей частью по два в одной комнате, но уже ясно замечается стремление к отдельной, самостоятельной жизни.
Хозяева мастерских и заводов, где работают русские юноши, чрезвычайно довольны ими: работа чистая и всегда к сроку, но и кроме того: русские и понятливее, и чистоплотнее, и вежливее французских сверстников. Нет. Я никогда не перестану подолгу останавливаться перед такими явлениями — как будто бы незначительными, но свидетельствующими о разносторонних способностях моих соотечественников.
С этой молодежью я знакомлюсь в саду и в светлых просторных коридорах бывшего монастыря. Все они одеты тщательно. У дам целуют ручки, мужчин приветствуют крепкими, открытыми рукопожатиями. Очень милы калмыки с их шафранными лицами, с их узко и вкось прорезанными темными глазами молодых Будд. Они даже франтоваты. У одного синий костюм, и при нем все сине-белое: галстук, платочек, чулки. Калмыки носят одежду с каким-то инстинктивным изяществом. Не потому ли, что все они в сотнях поколений прирожденные всадники? Ведь лошадь всегда учит человека красоте и ловкости движения.
Но что мне сразу бросилось в глаза и что мне больше всего понравилось у этой еще совсем зеленой молодежи — так это ее привычное отношение к старшим: совершенно свободное, но без малейшей тени развязности, непринужденное, но без ломания. Ни одного искательного движения, ни одной заранее соглашательской улыбки. Точно все они охотно предпочитают серьезную или веселую простоту.
Ипритом: как все они открыто, прямо и подолгу глядят в глаза, и у них самих такие ясные и твердые глаза! Да, здесь в отношениях господствует полнейшее взаимное доверие, ибо одна сторона не требует и не ищет никакой благодарности, а другой стороне так легко и приятно быть независимо услужливой и инстинктивно деликатной.
То же самое бессознательное душевное изящество и самоуважение я наблюдал десять лет тому назад у раненых солдат, для которых мои — жена и дочь — открыли в Гатчине лазарет — самый маленький — всего на десять человек. Однако в этом лазарете перебывали разновременно около ста человек. И у всех у них были тот же чистый взгляд, то же плотное пожатие руки и та же прочная дружба в серьезных, кратких словах.
Нас приглашают обедать. Тут только я узнаю, что это не руководители школы угощают своих бывших питомцев, нет, — они, разбросанные по всему Парижу, сговорились чествовать в последнее воскресенье банкетом своих бывших наставников и руководителей.
Очень веселый банкет. Меню: борщ, мясо со стручками и картофелем, салат-латук с огурцами, напитки — вода «Витель» и столовое вино для взрослых. Служат сами мальчики. Под конец один юноша читает по тетрадке речь, написанную карандашом. Хорошо читает и громко, но кое-где сам не разбирает своего почерка. «Простите, тут я отбился… А, мы употребим все свои молодые могучие силы на служение дорогой родине!» Тост за основателей школы. Тосты за учителей, за воспитателей, за маленького тихонького инструктора работ. И как же оглушительно кричат ура эти сорок молодых глоток! А в глазах пожилых людей я видел какой-то не совсем обычный блеск.
Потом поют хором чудесные донские песни: «При звонком табуне», «Поехал казак», «Вдоль да по речке». И еще старинную величавую песню — «Черных гусар». Качают учителей; у меня сердце холодеет и скачет: так низки потолки.
И это еще не конец. Выходим на воздух, садимся на траву. Под нами круглая, убитая и посыпанная песком площадка. Воспитатель, полковник, с видом хорошо тренированного спортсмена выставил юношей в две шеренги. «Направо! Ряды вздвой! Шагом марш!» Впереди идет мальчик-горнист и играет на рожке древний пехотный марш — «Козу», или иначе — «Машенька гуляла». Замолчал — начинают песенники. И опять, какая старина!