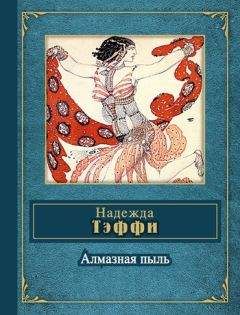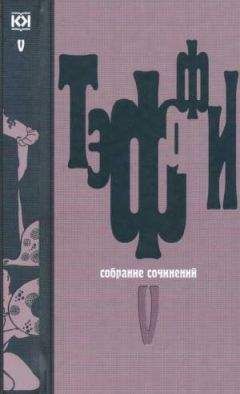Надежда Тэффи - Черный ирис. Белая сирень
И вдруг чудеса: пожалте к мировому.
Мировой спрашивает: зачем дрова брали?
Как так зачем? Печку топили. Своих-то ведь сколько спалили. Барыня приедет – забранит.
Мировой ничего, не ругался, только велел назад отдать. И чего жадничают? Одни с ними неприятности.
И откуда это он все узнал, мировой-то? Кажись, никого и не встречали, как за дровами ехали. Следы, – говорят, – от полозьев прямехонько через речку к дровам да назад, к вашему двору.
Следы? И хитер нынче народ стал. До всего додумаются.
День теплый. Четыре рыжие курицы клюют, благосло-вясь, разломанную корку.
На крылечко вынесен стол. Будет чаепитие. Нынче гости. Пришла из деревни кучерова родня – сдвуродная племянница, девка Марфа. Марфа – именинница, пришла поздравиться.
Девка большая, белая, костистая, полоротая. Платье на ней именинное такого нестерпимого бешено-розового цвета, что даже в синь впадает. День выдался светлый, красный; травка молодая, ядовито-зеленая, небо сине-синее, цветы в траве желтые, что солнышки, – уж на что ярко, – но перед девкиным платьем все потускло и померкло.
Старуха прачка смотрит на платье, щурится, жмурится, и все ей кажется, что девка не с подобающим достоинством держит себя.
– Чего ты все егозишь-то? – ворчит старуха. – Рази показано егозить. Ты сегодня именинница, на тебя с неба твой ангел утешается, а ты, как телушка, хвостом во все стороны.
– И что вы, бабинька Пелагея? – удивляется девка. – Да я как села, так и не крянулась.
Щурится старуха, жмурится на бешеное платье и понять не может, в чем дело, отчего у нее так в глазах мутно.
– Пойди самоварчик принеси.
Пришел кучер. Лицо озабоченное, брови сдвинутые, – печать общения с хитрой лошадью.
– Опять весь овес съела. Сколько ни задай, все подчистит. Этакая хитрая! Не каждый человек так сумеет. Иной человек куда проще. Барыня приедет, забранит.
– Забранит, забранит! – поддакивает прачка. – Эстолько добра перевела! А сама виновата. Целую зиму-зимнюю мужика кормит. Разве дешево мужика прокормить? Мужику картофелю подавай, да еще с маслом, да кашу ему, да хлебово. Разве мужик может сообразить, чтобы поменьше есть? Ему лишь бы ятребу свою набить.
Кучер сочувственно качает головой и даже вздыхает. Он, хоть и смутно, соображает, что «мужик» – это и есть он. Но что тут поделаешь? Он в глубине души чувствует даже некоторое благоговение к этому своему естеству.
– Мужик, он – дело известное. Разве он соображать станет!
Полоротая девка принесла самоварчик с зелеными потеками.
– Садитесь чай пить! – Старуха замигала, защурилась.
– Ты это кому говоришь-то? Кого собираешь-то? – Девка опешила.
– Да вас, бабинька, да вас, дединька.
– Так, так и говорить надо. Этак тоже вот одна бабка собрала ужинать. «Идите, мол, – говорит, – садитесь за стол». А не сказала, что, мол: «Крещеные, садитесь». Ну, и полезли всякие: и с печки, и с запечья, и с полатей, и с лавок, и с подлавочья, невиданные-неслыханные, недуманные-незнанные. Глазищами зыркают, зубищами щелкают. Позвала, мол, – так корми. А ей-то каково? Всех не накормишь.
– Ну, и что ж они? – выпучила глаза девка.
– Ну, и то.
– Что?
– Ну, и сделали.
– А что же сделали?
– А что надо, то и сделали.
– А что же, бабинька, надо-то?
– А вот спрашивай-спрашивай. Он-те ночью поспрашивает.
Девка от страху ежится и косит глазом.
– И чего ты все егозишь-то? – щурится старуха на бешено-розовую девкину юбку. – А еще именинница. Именины – святой день. На Зосиму-Савватия пчела именинница. Пчела – простая тварь, а и то в свой день не жужжит, не жалит: на цветочек сядет, – про свово ангела думает.
– Лошадь на Фрола и Лавра проздравляется, – вставил кучер, дуя на щербатое блюдечко.
– В Благовещенье – птица именинница: гнезда не вьет, клеву не клюет, поет, и то тихенько, очестливо.
– В Власьев день вся скотина проздравляется, – снова вставил кучер.
– А в Духов день – земля именинница. В Духов день землю никто беспокоить не смеет. Ни рыть, ни копать, ни цветов рвать – ничего нельзя. Покойников зарывать нельзя. Грех великий землю в ейные именины обидеть. Зверь понимающий – и тот в Духов день землю когтем не скребнет, копытом не стукнет, лапой не ударит. Великий грех. Кажная тварь именины понимает. Червяк – и тот под Ивана Купалу празднует. Огоньки вздует – ангелу своему молится. А вот придет святой день Акулина – Красные Ягоды, – тут тебе и клубника, и малина, и лесная земляника, и клюква, и поляника, и брусника, и смородина, и всякая мелочь лесная именины свои празднует. На Акулину – Красные Ягоды ни волк, ни лиса, ни заяц на ягоду не наступят. На что медведь – и тот опасается. Носом траву пороет, – нет ли чего, не нажить бы беды, – а потом шаг шагнет.
Девка косится испуганно, подбирает прямоступные ноги под розовую юбку. Сопит, вздыхает.
Кучеру тоже захотелось поговорить.
Он мало знает. Был в солдатах. Давно. Гнали на неприятеля. А потом еще куда-то гнали. И еще гнали. А куда – и не помнит. Всего не упомнишь.
– Три года дома не был. А пришел домой, жена: «Федорушка, здравствуй». Детки то же. А в углу, смотрю, люлька. В люльке пеленашка. Пеленашка так пеленашка. На другой день старшенькую свою спрашиваю: «Это кто же у вас в люльке-то?» – «А это, – говорит, – маленький». Ну, маленький так маленький. А на третий день спрашиваю старшенькую: «А откуда же у вас маленький-то взялся?» – «А бабушка, – говорит, – принесла». Ну, бабушка так бабушка. Расти стал. Слышу, – Петькой зовут. Ничего, выкормился. О прошлом годе сына женил, Петька-то. А я так и не спросил, откуда он. Теперь, чать, и сами забыли…
– Вот не помню, – шепчет старуха. – Не помню, когда корова именинница… Неловко так-то не знать. Стара стала, забывчива. А грех, коли обидишь…
Заперли калитку за розовой девкой. День прошел, спать пора.
Трудный был день. Сразу и не заснешь после такого дня. После гостей всегда плохо спится. Чаи, да разговоры, да наряды, да суетня всякая.
– И когда это корова именинница? Вот не вспомнишь, а не вспомнив, обидишь, попрекнешь либо что, и грех. Она сказать не может, смолчит. А там наверху ангел заплачет…
Худо старому человеку! Худо!
Ночь за окошком синяя. Напоминает что-то, а что, – вспомнить нельзя.
Тихо шуршат забытые рекой камыши. Ушла река. Камыши забыла.
Вурдалак
Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом, около погоста, стоял домик нашего священника отца Савелия Гиацинтова.
Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой – деревянными плашками.
Было в домике маленькое трехоконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени, и поэтому свет в комнате был зеленый и люди в зальце зеленые, как покойники.
Потом шла спаленка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была еще комнатка без определенного названия. В ней стояли мешки, кадушки и спала тетя Ганя, батюшкина сестра.
Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на «х» – Ханя.
Батюшка был худ, высок, добр и очень беден. Сам, бывало, в высоких сапогах и холщовом подряснике шагал за сохою. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу.
Матушка была огромная, высокогрудая, нос трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила несколько гнусаво, что производило впечатление надменности.
Тетя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни, и помню я ее в ярко-зеленой бархатной кофточке с зеленым галстучком.
Батюшку прихожане любили, хотя он был строг. Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он очень гневно кричал: – Куда прете, козлища! Разве может Господь всех вас сразу напитать! Становитесь в очередь!
«Козлища» в свитках, с огромными, собственного изделия, толстыми, как бревна, свечами темно-желтого воска толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот.
Церковь была маленькая.
На полу около амвона прихожане ставили свои приношения причту: глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом.
Перед этими хлебами и курами часто видали мы молодую бабу или дивчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, не объясняемую.
Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих – рыжего, волосы дыбом, босого, в ярко-зеленой рубахе. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой явно подагрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне, и поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую незабываемую ногу.