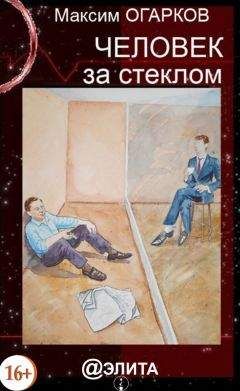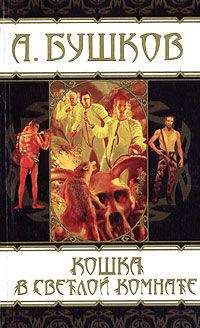Виктор Астафьев - Обертон
Вдруг загуляла! Да как загуляла! Будто с возу упала. Ночами где-то шлялась. Появились у нее деньги. Попивать стала. К пьяной-то к ней и прилепись военный, опять же из органов, по роже — вурдалак, по натуре насильник. У него на холостяцкой квартире она и кончила себя. Застрелилась.
Наталья Дмитриевна рассказывала и все наливала да наливала в рюмки. Закончив повествование, ослабела, свернулась на диване, натягивая на себя плед, бормотала:
— Я счас, Сереженька, счас, подремлю минуту, и мы еще… мы еще погутарим… Не уходите, пожалуйста. Не уходите!
Спала Наталья Дмитриевна долго и тяжело. Проснулась уже в сумерках, вскрикнула: «Кто здесь?» — вспомнила, ссохшимся голосом проговорила:
— Больше эту окаянную водку пить не будем. Наладим чаек. Ча-ае-ок. Вы на меня не сердитесь? — заглядывала она виновато снизу вверх.
— Да что вы, Наталья Дмитриевна?! Что вы? — Я обнял ее осторожно, поцеловал в голову. Она приникла ко мне, обхватила слабыми, вздрагивающими руками, и я вдруг, сминая слова, торопясь, рассказал ей о совхозе «Победа», о встрече с Беллой, которую я оставил средь дороги, о том, как страшно все погибли…
— Ни следочка, ни памяти! — плакал я, и теперь уж Наталья Дмитриевна утешала меня:
— Ах, Сереженька, Сереженька! Мальчик ты мой, мальчик!.. Чего же это мы, люди русские, такие неприкаянные, такие спозаброшенные… За что судьба так немилостива к нам? У вас есть дети? Я все болтала, болтала, соскучившись по собеседнику, и не спросила вас ни о чем. Простите меня. Любите их, детей-то, жалейте. Может, хоть они не повторят судьбу нашу, может, милосердней будет время к ним.
Поздним вечером, перед уходом, я спросил: — Что такое обертон, Наталья Дмитриевна?
Она не глядя, через плечо, сунула руку в стеллаж, вынула из толщи книг том энциклопедии с отгоревшим золотом на корочке и корешке, полистала и прочла; «Обертон — ряд дополнительных тонов, возникающих при звучании основного тона, придающих звуку особый оттенок или тембр…»
Наталья Дмитриевна, человек проницательный, деликатный, не спросила, зачем мне это знать.
Я заторопился в гостиницу «Россия», собрал вещишки и первым же самолетом улетел домой, не дождавшись конца профсоюзного съезда и попустившись банкетом — главным событием любого российского общественного мероприятия.
Овсянки — Красноярск, 1995 — 1996