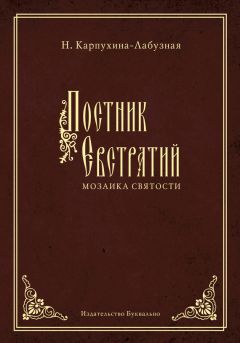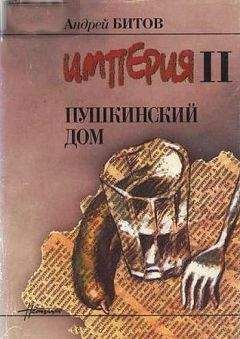Андрей Битов - Книга путешествий по Империи
Так я впервые узнал, что такое соломонов суд. Так я понял, что главное тоже наступить на живот и перешагнуть лежащего. С тех пор мне никогда не приходилось делать это столь чисто и откровенно, а как правило — мысленно, по внутреннему счету, но перешагнул я многих. С этим ли связано, что друзей остается все меньше?
Мы сидим и поем. Это мне очень нравится. Все поют — и я пою. Так я наконец чувствую себя в коллективе — это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». «НА-ВЕРХВЫ, товарищ…» Это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом — мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно: и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давно знаком, могу даже сказать в магазине: «Нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки…» Я теперь могу спросить что угодно.
Да, мы поем. И от первого же слова «НАВЕРХВЫ» — у меня начинаются спазмы в горле. До чего красиво мы поем! Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот, а когда мы доходим до «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“…» — у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марьстепанна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне — я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню, я озираюсь возмущенно по сторонам: кто там орет и портит песню? Но это относится ко мне: «Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю».
Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И когда потом, в старших классах, мы заучивали, что мысль и слово — одно, что мыслит человек словами и что чем правильнее мысль, тем точнее она выражена, — я заучивал урок со всеми, но мне было не вполне понятно и даже неприятно: я же думаю гораздо лучше, чем могу сказать об этом! Так и до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются мои слова… Мне слишком хорошо помнится, как мы пели хором, шестилетние, и как это было здорово, хотя, может, это я и сейчас додумал. Но отчего же только одна и никакая другая комната стоит сейчас перед моими глазами — темная, прохладная, и мы на лавках, в сумраке, по четырем ее стенам, а в середине что-то большое в белом халате машет руками, и лица не разглядеть. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства: как прекрасно я мог бы петь — и не пел. Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел прекрасно и был запевалой, но тут был бы уже пережим и неправда: у него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни — он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но поет он с каждым разом все лучше — я его теперь даже не слышу». Хоть петь Гена не умел…
Впрочем, теперь мне кажется, что я должен быть благодарен природе за печальную в детстве способность не задавать вопросов и за эту несчастную неспособность выразиться в пении ли, в игре… И я никому не завидую.
Вот и пишу теперь потихоньку. Пишу про наше военное детство. И как про него еще написать можно — не подозреваю. Потому что и так и еще так — мне уже нельзя про него писать. Например, что оно страшное и полно тяжелых переживаний… Потому что, как ни крути, о нем все равно получается радостней, чем об обычном и даже занимательном ожидании самолета в Хабаровском, к примеру, аэропорту. Потому что между военным детством и тем, как я сижу в аэропорту, писатель, летящий на Ту-114 в страну вулканов по командировке толстого журнала, — лежит двадцать лет. И мое пребывание в этом аэропорту в тыщу раз грустнее моего военного детства.
Десятый и одиннадцатый подвиги Генриха[2]Конечно, такая уж вещь очерк о положительном герое — само собой получается стиль выспренний и нелепый, красивый. Но ведь все правда одновременно. В футбол Генрих играет здорово и в кратер действующего вулкана спускался неоднократно, мы его зовем в шутку Вулканавт-1, и в пургу он попадал, и руки-ноги ломал, попадал в камнепады и лавины. Так что все правда, что в газетах пишут, только стиль — неправда. А может, даже в стиле доля правды есть, именно в этом, в неестественном, высокопарном? Вот как пишет сам Генрих о спуске в кратер, соответственно умнее, точнее и скромнее. Скромность ведь — тоже стиль.
РЕПОРТАЖ ИЗ КРАТЕРА ВУЛКАНААвтор Генрих Ш.
Не так-то просто выспаться у самого кратера вулкана, который то и дело дает о себе знать. В час ночи наше безмятежное настроение улетучилось: под палаткой открылась трещина, из которой шел горячий пар — плюс 94 градуса.
Температура площадки возросла до 56 градусов. В довершение ко всему, поднялся сильный ветер и повалил снег. Температура воздуха за палаткой упала до минус 12. Горячий пар, конденсируясь на холодных стенках палатки, падал на нас ручейками тепловатой воды.
— Если погода не испортится, то завтра, — говорю я перед сном Анатолию. Он молча кивает. Он знает, о чем я думаю.
Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку:
— Дымит на всю катушку.
И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск.
Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает пяти метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный: термометр, рассчитанный на температуру до 350 градусов, лопается почти мгновенно. Беру 500-градусный термометр, но его постигает та же участь. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650–700 градусов.
Часы показывают четыре. Значит, я здесь уже около двух с половиной часов — надо выходить; к тому же противогаз начинает пропускать газ, по-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой — подъем.
Газета трехлетней давности… Что делал я три года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй что, я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с Длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку и, какую не находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя — такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. И потом тоже не утруждал себя писанием лишних, обеспечивающих меня бумажек, верил на слово. И теперь у меня не хватало: трех одеял, двух спальных мешков и одного матраца; одного радиоприемника, который я в глаза не видел, двух мисок и трех ложек; был фантастический перерасход рукавиц, а главное, не хватало насоса-лягушки, который я отправил на склад как недействующий, а накладной не выписал — не иголка же, насос! — и теперь его не находили на складе. А также не хватало 50 метров обсадных труб, которые, как это явствовало из моего акта приема, я в свое время принял, в чем и расписался. Все это составляло фантастическую сумму денег, которой у меня, конечно, не было. Насос все-таки нашли, трубы как-то списали, остальное из зарплаты высчитали… Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
Я тоже было вступился за женщину на улице. Тоже было три хулигана. Поднакидали они мне изрядно. Тут и милиция подоспела, а хулиганы убежали. И женщина сказала, что это я сам пристал ни с того ни с сего к совершенно посторонним людям. Женщина направилась к хулиганам, поджидавшим за углом, а меня забрали в милицию как учинившего драку на улице.
С крючком и молоточкомИ буран был в моей жизни. Только меня не заметало и меня не искали с вертолетом. А был я в это время на Севере. И поставили меня на узкоколейке слесарем-смазчиком. И ходил я с крючком, проверял буксы и стукал по колесу молоточком. И думал, что никогда бы в жизни не мог представить себе, что буду этим заниматься. И все вспоминал, как ехал летом с мамой на юг, и на каждой станции появлялся этот таинственный чумазый человек, поднимал крючком крышки и стукал по колесу молоточком, и я уезжал, а он оставался, с крючком и молоточком, потому что вряд ли он ехал вместе с нашим поездом.