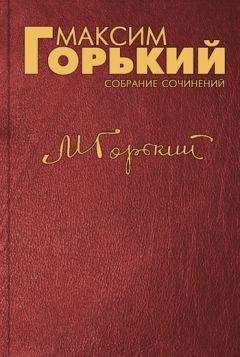Максим Горький - Городок Окуров
И медленно, отыскивая наиболее веские, грубые слова, она начала бросать ими в лицо Жукова.
— Конечно, вы учёный человек, конечно! А кто смеётся над архангелом Гавриилом? Вы смеётесь, учёные, — доктор, Коля и вы! Не правда? И первые похабники тоже вы! Ведь если теперь выйти на базар и сказать людям, какие вы стишки читаете, — что будет?
Жуков, тяжело ворочая шеей, смотрел на неё, оглядывался вокруг и молчал. Перед ним всё задвигалось и поплыло: являлся шкаф, набитый бумагами, чайной посудой и бутылками, письменный стол, закиданный пакетами, конторка, диван, с пледом и подушкой, и — два огромные глаза — тёмные окна, с мёртвыми стёклами.
В белых изразцах печи сверкал отдушник и тоже как будто кружился, бросая жёлтые лучи.
Женщина, вспоминая множество обид, нанесённых ей этим человеком и другими, всё говорила, чувствуя в груди неиссякаемый прилив силы и бесстрашия. Развалившееся по стулу жидкое тело с каждой минутой словно всё более расплывалось, теряя очертания человеческой фигуры. Глаза Лодки стали светлыми, и голос звенел всё яснее.
— Есть тут благочестивая одна старушка, Зиновея. Если, потеряв на время стыд, рассказать без утайки, что вы в благовещенье с Пашей делали…
— Брось! — попросил Жуков, с усилием протягивая ей стакан. — На, пей! Или ты уж пьяная?
— Ах — нет, извините, я не пьяная! — сказала Лодка, оттолкнув его руку и вставая из-за стола.
— Что тебе нужно? — в десятый раз спросил Жуков, тоскуя и чувствуя, что вино не пьянит его.
— Ничего мне не нужно. А так, захотелось посчитаться. Зиновею — все знают, ей все поверят…
Подумав, она почти искренно прибавила:
— Право — жаль вас! Такой уж вы несчастный! И умрёте скоро к тому же.
— Лодочка! — сложив руки, завыл Жуков. — Ну, не надо, не говори больше, ну, я же…
— Упадёте навзничь, и — кончено!
Он протянул к ней руку, хотел что-то сказать, но губы его вздрогнули, глаза закрылись, и из-под ресниц потекли слёзы.
Несколько секунд она молча смотрела на него, потом подошла, взяла руки его, положила их на бёдра себе и, крепко схватив его за уши, запрокинула голову податного так, что красный кадык его высунулся сквозь жир острым углом.
— Года ваши небольшие ещё, — раздельно говорила она, — сорок пять, чай? А уж какой вы некрасивый! А я — и в слезах хороша!
— Ну, зачем, зачем ты это? — хрипя и задыхаясь, говорил он, вертя головой, чтобы освободить уши из её рук.
Она села на колени к нему, Жуков глубоко вздохнул, прижался щекой к её груди и стал упрекать её:
— Ф-фу, как нехорошо! Какая ты озорница! Ну — зачем? Пришла — спасибо! Я тебе — враг? И про всё это, как мы шалили, — зачем говорить?
А сам дрожащими пальцами расстёгивал её платье и, касаясь горячего тела, чувствовал, как живая, возбуждающая сила наполняет его грудь, уничтожая страх.
— Милая Глаша! Будем жить друзьями, право, а? Немножко друзьями? Ладно? Племянник — чепуха!
— Я знаю! — сказала она, выскальзывая из его рук. — Ну, баиньки пора. Уж скоро, чай, светать будет. Вставай!
Он поднялся, заискивающе ухмыляясь, и, кивая головой на дверь в соседнюю комнату, заворчал, как старая обласканная собака.
— Огонь возьми.
В спальне, раздеваясь, она спросила его:
— Старушка эта обкрадывает тебя, а?
— Хе-хе! — ответил Жуков, вытирая мокрым полотенцем свои заплаканные глаза.
Лодка, голая, любовно гладила своё чистое тело ладонями и, качая красивою головою, брезгливо фыркала:
— Ух, какой беспорядок везде, ну уж — образованный! Пыль, грязь, ай-ай!
Инспектор смотрел на неё и жирно хихикал, потирая руки.
Он скоро заснул, Лодка повернулась, чтобы погасить огонь — со стены на неё смотрел большой портрет женщины: продолговатое сухое лицо с очками на носу и бородавкой у левой ноздри.
«Какая уродская!» — подумала Лодка, прикручивая фитиль.
Портрет медленно утопал во тьме.
«Жена или мать? Наверное — жена…»
И, высунув язык портрету, погасила огонь.
Сумрак облил стены, потолок, вещи, мертвенно застыл.
Под его серою пеленою красное лицо Жукова потемнело, точно у мёртвого, и ещё более опухло. Нос инспектора вздрагивал, тонко посвистывая, жёсткие волосы рыжих усов запали в рот и шевелились, колеблемые храпящим дыханием, небритые щёки ощетинились, нижняя губа отвалилась, обнажив крупные, лошадиные зубы. Вся голова Жукова напоминала уродливый огромный репей, глубоко вцепившийся в подушку толстыми колючими усиками.
«Пресвятая богородица, прости-помилуй!» — мысленно сказала Лодка, охваченная тоскою и отвращением.
Потом, кутаясь в одеяло, подумала утомлённо:
«А тот, зверёныш, наверно в арестантской ночует…»
И задремала, соображая:
«Старуху надо прогнать. Возьму Клавдейку Стрельцову. Она — хроменькая, нищенка…»
…Ей приснилось, что она стремглав бежит куда-то под гору, гора всё круче и всё быстрее невольный бег Лодки, она не может остановиться и громко кричит, чувствуя, что вот сейчас упадёт, расшибётся насмерть.
Обливаясь холодным потом, открыла глаза, — Жуков грубо и сильно тряс её за плечо.
— Ну, и дрыхнешь ты! Совсем мёртвая.
— Отстань! Много ли я спала… — сердито сказала она, не видя его лица.
Инспектор, кашляя и харкая, упрямо говорил:
— Вставай, вставай! Скоро одиннадцать, люди могут придти, знакомый зайдёт, а тут — здравствуйте! — этакая гостья…
Она приподняла голову, посмотрела на него, медленно облизывая губы, лицо Жукова показалось ей страшным: жёлтое, синее, глаза, налитые кровью, казались ранами. Полуодетый, он стоял у кровати, оскалив зубы, и тыкал в рот себе зубной щёткой.
— Задним крыльцом пройди, а не через парадное, — слышишь?
Лодка, закутавшись одеялом, поднялась и сказала:
— Уйди…
Ей хотелось сказать какое-то другое слово, но горло сжала судорога обиды.
Инспектор не торопясь ушёл в соседнюю комнату, где было светло, чисто прибрано и шумел самовар.
«Старушка очень довольна будет! — бессвязно думала женщина, одеваясь. — Выгнал…»
Ей казалось, что её тело ноет и жалуется, точно его избили во сне чем-то тяжёлым и мягким, не оставляющим иных следов, кроме тягостной боли в груди.
«Выгнал! — мысленно повторяла она. — Так!»
Руки у неё дрожали — взяла с умывальника стакан, а он выскользнул из пальцев и упал на пол, разбившись вдребезги.
— Н-ну? — крикнул Жуков, появляясь в двери. — Проснись!
«Точно кучер на лошадь! — подумала Лодка и стала собираться поспешнее. — Ладно! — мысленно угрожала она хозяину и недоверчиво оглядывалась. Гонишь, гнилой пёс? Старушке будет приятно. Пусть! А стёкол в окнах — я тебя лишу. Да!»
Она закутала голову шалью так, что остались незакрытыми только злые глаза, вышла в соседнюю комнату и там сказала, не глядя на Жукова:
— Ну, прощайте, Евсей Лиодорович…
Ухмыляясь, он протянул ей руку с зелёной бумажкой; она осторожно вытянула деньги из толстых пальцев.
— Благодарю вас.
— Довольно?
— Хватит.
— Иди налево, через кухню, — до свиданья!
У двери в кухню она глубоко вздохнула, ещё плотнее закутала лицо, отворила дверь и бросилась через кухню, как сквозь огонь, выбежала на двор, на улицу и быстро пошла по тротуару, сжав зубы, сдерживая биение сердца.
Перед нею неотступно плыло красное лицо с оскаленными зубами, тряслись дряблые щёки, утыканные рыжим волосом.
«Сначала, — прищурив глаза, подумала она, — пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу! Подожди, голубчик, не-ет, ты подожди!»
Мысленно беседуя с Жуковым, она шла твёрдо и уверенно.
Ненадёжная, выжидающая тишина таилась в городе, только где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара:
— Тум-тум-тум… Тум-тум…
* * *Бурмистров валялся на нарах арестантской, тупо глядя в стену, исчерченную непонятными узорами, замазанную грязью. Не первый раз был он тут, не однажды его били в этой конуре, и, наверное, в грязи её стен есть его кровь.
Он жил в полусонном состоянии расслабленности и отупения: мысли его пересекали одна другую и вдруг проваливались куда-то в тёмную глубину души, где притаилась жадная тоска и откуда по всем жилам острою отравою растекалась злая горечь.
О Симе он почти не думал, но иногда в памяти его вспыхивали прозрачные глаза юноши, он смотрел в глубину их с жутким любопытством и смущённо убеждал покойника:
«Чудак — туда же! Ну — где тебе? Я ли не человек против тебя?»
И порою ему казалось, что всё это дурной сон, — не мог юродивый парнишка занимать его, Вавилино, законное место на груди Лодки.
Но, вспоминая неутомимое тело Глафиры, певучий носовой звук её речей и заглатывающий взгляд синих, пьяных глаз, он сжимал кулаки, скрипел зубами и готов был реветь от обиды. Точно пила резала ему грудь, он обливался потом от возбуждения, бродил по арестантской, шатаясь, как слепой, и скороговоркою, сквозь зубы говорил: