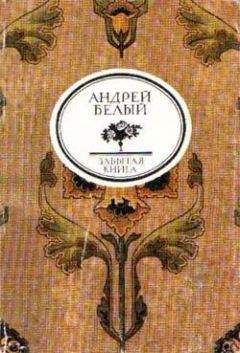Андрей Белый - Том 1. Серебряный голубь
Все это совершалось при полном молчании, и глубокое безмолвие каждодневного этого обряда настраивало на раздумье, извлекая в душе величавые, бесконечно грустные звуки.
Не так ли и ты, старая и умирающая Россия, гордая и в своем величьи застывшая, каждодневно, каждочасно в тысячах канцелярий, присутствий, дворцах и усадьбах совершаешь эти обряды, — обряды старины? Но, о вознесенная, — посмотри же вокруг и опусти взор: ты поймешь, что под ногами твоими развертывается бездна: посмотришь ты, и обрушишься в бездну!..
— Вам кофе, бабушка, или чаю?
Молчание; рука протянутая старухи забарабанила пальцами по скатерти и такой черный ее взор устремился в чашку, будто ее она взором задумала расколоть на тысячу кусков…
— Эээ… смею заметить-с… бабинька-с… вчера и позавчера-с изволили чай… Э-э-э-э… кушать… э-э-э-э… — неожиданно вставляет Евсеич, но, внезапно оробев, вдруг умирает, распластанный на стене со страху, и его косой, умоляющий взгляд быстро слетает с Кати и останавливается на баронессе, плавает в потолке и упирается в собственный носок; но барабанит бабкина протянутая рука; отбарабанит едва, и уже вновь рука барабанит; в другой руке бабкина палка прыгает судорожно, судорожно стучит по ковру.
— Вам кофе, бабушка, или чаю? Молчание.
— Ну, я налью вам чаю. Молчание.
— Э-э-э… да-с… э-э-э-э — э-э-э!.. Ее-с сият-ство… с позволения-с вашего-с… гээгээ… изволит-с… нда… изволит-с… э-э-э… чай-с… чего-с ваше-ство? Молчание.
— Ну, вот вам, бабушка, чай, — со сливками или без сливок?…
Молчание.
— Без сливок? Молчание.
— Передайте, Евсеич, бабушке чаю.
Дрожащий Евсеич, как с бумаги сведенное калькомани[40], отлипается от стены, выхватывает чашку и, споткнувшись о белую бабкину болонку притворно взвизгнувшую, проливает чай на ковер, обжигая руку, но душеные мягкие пухлые пальцы старухи с негодованьем отвергают таким способом переданный чай; и Евсеич, не угадавший баронессиных вкусов, спешит поправиться:
— Э-э-э… Кофею-с, кофею-с, Катерина Васильевна… Как же-с! Завсегда их превосходительство изволит… э-э-э… кофей кушать…
Но едва это он произносит, как раздается грудной густой бабкин голос:
— Дурак! Давай чашку.
Пухлые пальцы старухи принимают чашку и сконфуженный Евсеич со срамом удаляется в темный угол, откуда раздается его облегченный зевок.
Молчание.
— Вам, может быть, бабушка, неудобно сидеть?…
— Хотите, я вам подложу подушку?… Право, вам с подушкой удобней!..
— Мими, Мими, беленькая Мими! Дай я тебе дам кусочек сахарцу; бабушка, у Мими скривился бант… Мимка, Мимка, я тебе поправлю бантик…
— Рррр — гам, гам! — раздается из-под баронессиной юбки и оттуда высовывает нос маленькое существо — не собака, конечно.
— Ах ты, дрянная собачонка: бабушка, она опять меня укусила за палец!
— Ppp — гам, гам! — раздается из-под баронессиной юбки.
— Мими!
— Ppp — гам, гам!
* * *— Не сердитесь на меня, бабушка…
— Мне больно, когда вы совершенно напрасно говорите дурные вещи про Петра…
— Я больше, бабушка, не буду…
* * *— Надо бы кучера, бабушка, послать в город: кучер говорит, что у нас не хватает олеонафту[41]; я думаю, что вам, бабушка, не хватит и одеколона…
— Сегодня дурная погода, а вчера, бабушка, было солнце…
— Бабушка, летом солнца больше, а зимой его, бабушка, меньше: но я люблю и лето, и зиму, бабушка…
— Леля тоже любит и зиму, и лето, а князь Чиркизилари так он вот не любит, бабушка, ни зимы, ни лета. Зиму и лето он живет в Биаррице.
— Вам еще чаю?
Молчание… Все это говорит одна Катя: и молчание отвечает каждому ее восклицанью; ей бабушка мстит за вчерашнюю выходку, хотя и крепится не заговорить: так бабушка всегда: но Кате это нестрашно, трясется от страху один Евсеич; уже весь истощила она запас слов: говорит Катя вот уж так мало, так мало — мысли ведь у глупых девочек не складываются в слова; помня, что больше всего старушка боится отсутствия одеколона, Катя пускается на хитрость, хотя и знает, что одеколону хватит; но все те уловки провинившейся девочки давно разучила старушка, и старушка не отвечает; наконец, упоминает Катя заветное имя Чиркизилари, чтобы вырвать у бабушки хотя бы ворчанье о том, что не чета князь Чиркизилари ее Петру; но и тут старушка молчит; если уж молчание не Пробито князем Чиркизилари, то что же пробьет это молчание!
— Князь, бабушка, Чиркизилари!..
Молчание: пухлые пальцы старухи тянутся нежно к своей к Мимочке, к болоночке, и какого влюбленно останавливаются на поганой собачонке, а Катя сердится — сдвинулись гневные бровки; из-под ресниц ревниво бабушку жалит злой изумруд, хотя Катя делает вид, что ей нипочем бабушкин маневр: сама же гневается — вот, вот сгорбится и на бабушку прыгнет — фу, фу, фу: болонка, дрянная собачонка! Мимка! А с ней, с внучкой, ни слова!..
— Эээ… как же-с… эээ… молодой-с князек-с, Чиркизилари… ээ… его сиятельство… знал еще воо каким-с… Чиркизилари-с… молодой князек, — снова вмешивается Евсеич, но, получив дурака, прискорбно тупится в угле…
Как же — еще бы не помнить Чиркизилари Катеньке: она горбится — фу, фу, фу: плешивый, картавит, и волочится нога, и изо рта пахнет. Дрянная Мимка, дурак Чиркизилари, глупый день — и все дураки!.. Вот, она, — Катенька, всем задаст!
А бабушка искоса поглядывает на внучку и уже собирается ей протянуть свои пухлые пальцы, чтоб поцеловать этот лобик, эти глазки, эти волосики; и — дон: половина первого.
Так в глубоком безмолвии совершается каждодневный, но великий обряд этой уже отходящей в прошлое жизни, тогда как с открытой террасы новые несутся звуки новой России и горланится песнь далеко проходящих парней, и золотой поет визг тигриной гармоники: «За ваа-мии-ии-деет… свее-жиих раа-аа-тникаав строой». Потом все замирает в отдаленье.
Но сидящие здесь новой России не знают, ни песен новой России, ни этих за липами потрясающих душу слов; и парни, и песни, и слова песни — ведь звучат те слова, и те песни далеко, далеко поют парни; и никогда тем словам и тем песням не долететь до тихого этого пристанища, парням никогда не попасть в этот сад; но то обман: и слова, и сама песнь — здесь, и парни — здесь: давно отравляет песнь этот, старыми полный звуками, воздух, расширяя ужасом черные баронессины глаза; все уже давно баронесса узнала; и себя, и Россию обрекает она на гибель и роковой борьбы жертву; но и немой она представляется, и глухой: будто ничего она не знает от новых тех песен; но знает Петр.
И Петр входит.
Вот он — в шелковой, красной рубахе: молодцевато поскрипывают его сапоги и вьется пепельная шапка его волос: закручивая ус, Дарьяльский с веселым схватывает с хохотом белую болонку, подбрасывает ее на воздух, и потом, почтительно опустив, идет смело к баронессиной ручке, точно на штурм крепости: «Здравствуйте, maman, здравствуйте… Здравствуй, Катя: простите — я опоздал»…
Странное дело: после тоски и безумий души больной, не испытывали вы никогда разве покоя блаженного, легкости странной и какого-то буйного молодечества? Гибель вашей души и ужас вам грозящих опасностей вдруг покажется не более как детской шуткой, или более того: совершившимся не с вами, но вам рассказанным; вам покажется тогда, что где-то вы слышали душу смутившую хаоса песнь, но где — этого вы не скажете никогда; сон жизни вас обоймет и отымется память; и будете вы легко носиться по волнам жизни, срывая одни лишь цветы удовольствий — благие дары бытия; и нет, нет — не удержится ваша с вами радость: прошлое, что грозило и что не перестало быть, — тогда встанет во мгновение ока; и вы проклянете час вашей легкости — тот час, когда, глядя на резвящийся на лугу хоровод, или на девушки взор любимый, вы сказали себе: нет, мне пригрезились беды, нет, ничего мне и не грозит… Так знайте же: будет поздно.
— Уже поздно, — протянула в нос старушка, надменно трясясь, благосклонно, над склоненной головой Дарьяльского, и все же касаясь губами пепельных его волос, когда он ей целовал руку.
— Да, уже поздно, — блеснула на него и Катя изумрудным испуганным укоризненным взором, и безжизненно продрожал ее голос.
— Xe-xи-xe-c! — отозвался Евсеич из темного своего угла.
Ни смешка, ни укора, ни даже роковой благосклонности семидесятилетней бабки тогда не заметил Дарьяльский, как не осенила его то, что странно как-то сменила старушка свой каждодневный на него утренний гнев ничем не объяснимой благосклонностью: так обреченные и на казнь минуты последние жизни на себе испытывают благосклонность тех, которые их через миг поведут на смерть. Все же было странно, что на Дарьяльского роптавшая и Катину Дарьяльским загрызающая жизнь старушка в глубине души глухой уже крепко и цепко успела пожалеть неприглядного на ее взгляд внучкина жениха.