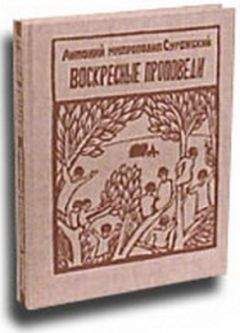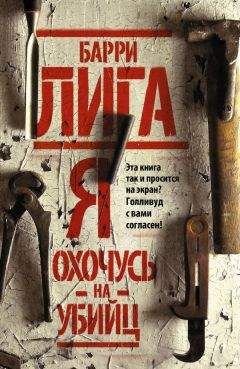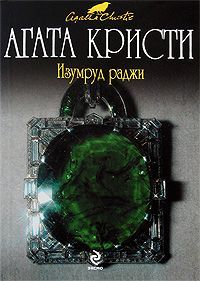Семен Юшкевич - Рассказы
Петр Федорович в детстве был глубоко верующим мальчиком, но в гимназии постепенно стал терять Бога, а в университете окончательно простился с ним. Когда он вышел из университета, у него начался период удач и неудач, которые Рогожский впоследствии назвал периодом везения и невезения. Были времена, когда ему все решительно удавалось, но были времена, когда ничего не удавалось. Рассуждая критически и стараясь понять причину, или механизм этих то удачных, то неудачных серий, он, как это бывает с игроками, набрел на какие-то непонятные ему, но несомненно существовавшие связи между его успехами и явлениями, значительность которых была ничтожна. Эти явления бывали то фразой какой-нибудь, то жестом, то встречей с каким-нибудь лицом. Он заметил, что если фраза, жест, или встреча и многое неперечислимое однажды сопутствовали успеху, то та же фраза, жест обязательно и в других случаях вызывали успех.
Таким образом он натворил себе много божков, которые были тем хороши, что давали его духу спокойствие и уверенность, а в случае обмана каждый из них мог тотчас же быть заменен новым божком. Умом он понимал всю глупость этого колдовства и подчиненности бессмыслице и все-таки шел под защиту бессмыслицы, а не разума. Помогало! Утро он начинал с того, что надевал носок на левую ногу и делал это механически, — правая нога уже знала, что ей нужно подождать своей очереди и не протягивалась. Для некоторых случаев она совершенно потеряла ловкость правого члена. На лестницу он поднимался с левой ноги, а спускался, начав с правой. Когда говорил речь, пальцы его левой руки были постоянно засунуты за жилет. Даже Марья Павловна не подозревала, до какой степени он суеверен: он ревниво охранял свою тайну от нее, главным образом потому, что даже и ей ему было бы стыдно признаться в этом. И так он жил со своими божками, которых подчинил себе, сам им рабски подчинившись, жил спокойно, весело, хорошо и быстро приближался к славе. Марьей Павловной он был очень доволен, оба любили друг друга хорошей любовью, у них было двое детей, но знали они один другого поверхностным знанием. И это пока не мешало их совместной жизни.
Был уже час ночи. Марья Павловна чувствовала себя уставшей и сидела, закрыв глаза. В полудремоте, чувствуя на веках свет луны, она перенеслась в гостиную Сергея Ивановича. Вот он стоит перед нею, как всегда, протянув любезно обе руки. И так это ясно было, что она увидела все крапинки на его синем галстуке и золотую булавку с красным камешком. Его не стало, и она тотчас увидела монахиню со стареющими, пухлыми, розовыми щеками. Она вспомнила, что монахиню эту знала, когда была в третьем классе гимназии. И увидев ее, Марья Павловна припомнила многое, что забыла: давно умершую классную даму и ее манеру произносить русское "н" как французское.
— Делайте реверанс, девицы, делайте реверанс, — услышала она и всей душой потянулась к своему детству.
Но классную даму уже сменил Медведский и сказал дерзко: "Я люблю вас", и Марья Павловна замечталась о том, что было бы, если бы Медведский был ее мужем. Так ли она бы любила его, как Петра? Но тут перед ней проплыл Тупкин под руку с "ерундой" и ряд новых лиц, совершенно незнакомых…
Она очнулась от дремоты, разбуженная Петром Федоровичем, который вдруг страстно и порывисто обнял ее за талию. Она улыбнулась, но от лени не захотела раскрыть глаз.
— Маша, — сказал Петр Федорович.
Она опять улыбнулась, уже совсем очнувшись, и с сожалением оглянулась. Луна плыла за ними. На домах лежали тени от деревьев. Впереди, поблескивая синью и серебром, бежали трамвайные рельсы. Она вздрогнула и потянулась от ночной свежести.
— А процесс-то я выиграю, — сказал он.
— Пусти, — попросила она, — мне холодно.
Он вздохнул, принял руку и откинулся на подушку.
— Совершенно забыл, — неожиданно произнес Петр Федорович, — ведь у меня уже третий день запор. Приеду домой и сейчас сделаю себе промывательное.
Она ничего не ответила, но не потому что оскорбилась. За шесть лет замужества она так привыкла к нему, к его невоздержанности и домашней неэстетичности, что подобные слова уже не вызывали в ней протеста. В первые два года она очень страдала, но после рождения ребенка она примирилась, привыкла даже к таким словам, о существовании которых и не подозревала. Когда он сердился, или любил, он не подбирал выражений. Но нежность ее к нему из-за этого не уменьшалась. Однако, уважая, она все-таки немножко презирала его. Когда они приехали домой, то тотчас разделились. Марья Павловна, не раздеваясь, с муфтой в левой руке торопливо прошла в детскую и присела подле кроватки, где раскинувшись спала Лялька, восхитительная двухлетняя девочка. Петр Федорович, сняв пальто, пошел в спальню, большую, в три окна, комнату. Здесь он не спеша разделся, аккуратно, как этому его в детстве научили, сложил платье на стуле, надел свежую, пахнувшую стирочным мылом ночную сорочку и, став босыми ногами на коврик, сделал то, о чем говорил с Марьей Павловной. Но и тут он сохранил на лице ту же важность, которую он показывал всем людям. Когда Марья Павловна вошла, он в ожидании сидел на ее кровати.
— Слава Богу, хорошо, — сказал он ей, — но вот опять на затылке прыщик выскочил, боюсь, что фурункул. Достань, пожалуйста, йоду и смажь его. Этакое наказание, каждый месяц фурункул!
Он сидел, согнувшись, угрюмый, раздраженный мыслью, что через неделю приятель, доктор Дитрих, будет ему опять резать затылок. Из расстегнутой сорочки, повиснув на подсердечном жире, выглядывали две толстые груди с крупными, серыми сосками. Руками он почесывал волосатое колено.
Марья Павловна принесла йод. Петр Федорович поднялся и повернулся к ней спиной. Ее тонкое обоняние ощутило запах его тела. Задержав дыхание и чувствуя легкую тошноту, она принялась мазать прыщик, невольно разглядывая шрамы на его затылке.
— Надо признать, что Сергей Иванович мастер устраивать вечера, — сказал Петр Федорович, ложась и с недовольством закуривая папиросу, — он знал, что курение ему вредит, но не мог отказаться от него. — Лет через пять и мы так же заживем.
— Да, да, — сквозь сон, усталым, нежным голосом ответила Марья Павловна.
Рогожский потушил папиросу и, вырыв себе гнездо в постели, уложил в него свое большое тело и наполовину накрылся простыней. Потом шепотом помолился. Молился он так:
"Педеполбож, педеполбож, педеполбож!"
Это значило: пречистая дева, помилуй мя Боже!
Но за два года, произносимая быстро каждую ночь перед сном, молитва превратилась в педеполбож.
По какому поводу Рогожский ее составил, он не помнил. Но она помогала. И он был бы несчастен, если бы забыл именно так молиться.
* * *Марья Павловна сидит с кем-то в мужицкой телеге. Телега едет посреди поля. Направо и налево высокие хлеба. Во все стороны все видно, как на ладони. Кто сидит с ней рядом, она знает, но не может вспомнить его лица, так как он головы не имеет. Но то, что нет головы, не удивляет ее, а кажется совершенно естественным. Тройка веселых красных лошадей несут вовсю к селу. Волосы ее растрепались. Солнце крепко жжет спину. На затылке она чувствует пот. Тот, который сидел с ней рядом, голосом Медведского сказал: "Веселее, Антон!" Телегу закачало во все стороны. На горизонте вырос мужик, гнавший двух коров. Марья Павловна закричала от ужаса и полетела на землю. Легла она мягко и увидела, что оголена до живота. И тут, но так натурально, как это бывает в действительности, откуда-то выскочили две большие красные собаки с длинными мордами и с лаем обступили ее с двух сторон. Она ясно почувствовала, как одна с правой стороны обнюхала ее ухо и фыркнула на него своим горячим дыханием.
"Только не надо двигаться, — подумала она, — это одно еще может меня спасти. Неприятно, что я оголена, но потерплю".
А собаки сидят, дуют на нее, все ждут, чтобы она хоть шелохнулась.
"Поглажу их", — сказала себе Марья Павловна, и, подняв руки, положила их на теплые морды собак.
И сразу обе ее руки очутились в их пасти. Сердце у нее упало.
"Пропали мои руки", — подумала она.
Но в ту самую минуту, как зубы коснулись ее ладоней, кто-то сказал: "Теперь ломайте!", и тотчас нижние челюсти у собак были сломаны.
И от огромной радости Марья Павловна проснулась.
"Как отчетливо я услышала: Теперь ломайте!" — перво-наперво удивилась она, еще не зная о том, что проснулась.
Но вдруг близко раздалось тиканье мужниных часов, и она вторично безумно обрадовалась.
"Какой тяжелый и все-таки славный сон, точно роман с благополучным концом", — думала она, то раскрывая, то закрывая глаза, все еще не ощущая, что существует, что рядом с ней лежит Петр Федорович, которого можно разбудить. Но что означает этот сон? Счастье, или несчастье? И как вовремя было сказано: "Теперь ломайте!" Тяжелый, славный сон, повторила она, все не приходя в себя. Значит, мне предстоит несчастье, от которого меня спасет чудо? А если чуда не случится, тогда я обречена! Но за что? Так жалко было бы расстаться с жизнью, с детьми. А ведь расстаться-то придется рано или поздно. Все живущие на земле обречены на смерть. А что, если я завтра умру?