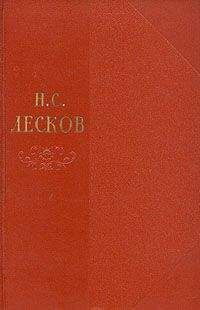Николай Лесков - Островитяне
– Я так… Что так?.. Как это всегда смешно выходит!
Ида беззвучно рассмеялась.
Это и действительно выходит смешно, но только смешно после, а в те именно минуты, когда никак не заговоришь таким тоном, который бы отвечал обстановке, это бывает не смешно, а предосадно.
Если вам, читатель, случалось разговаривать рядом с комнатой, в которой сидят двое влюбленных, или если вам случалось беседовать с женщиной, с которой говорить хочется и нужно, чтобы другие слышали, что вы не молчите, а в то же время не слыхали, о чем вы говорите с нею, так вам об этом нечего рассказывать. Тут вы боитесь всего: движения вашего стула, шелеста платья вашей собеседницы, собственного кашля: все вас, кажется, выдает в чем-то; ото всего вам неловко. Для некоторых людей нет ничего затруднительнее, как выбор камертона для своего голоса в подобном положении.
– Мутерхен[27] моей нет дома, – проговорила, тщательно разбивая на окне новый крепкий орех, Ида.
– Где же это она?
– У Шперлингов; там, кажется, Клареньку замуж выдают.
Разговор опять прервался, и опять Ида, слегка покраснев и закусив нижнюю губу, долго стучала по ореху; но, наконец, это кончилось: орех разбился. Стала тишь совершенная.
– Вон Соваж пошел домой, – проронила, глядя в окно, девушка.
Я хотел ответить ей да, но и этого не успел, и не успел по самой пустой причине – не успел потому, что в это мгновенье в зале передвинули по полу стул. Он, конечно, передвинулся так себе, самым обыкновенным и естественным образом; как будто кто пересел с места на место, и ничего более; но и мне и Иде Ивановне вдруг стало удивительно неловко. Сидевшим в зале тоже было не ловче, чем и нам. Ясно, что они чувствовали эту неловкость, ибо Истомин тотчас забубнил что-то самым ненатуральным, сдавленным голосом, и в то же время начало слышаться отчетливое перевертывание больших листов бумаги. Истомин произносил имена Ниобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.
Маня только пискнула один раз, что-то вроде «да» или «дальше» – даже и разобрать было невозможно.
– Что это, они гравюры рассматривают?
Ида кивнула утвердительно головою и опять с двойным усилием ударила по ореху.
Мы больше не могли говорить друг с другом.
Истомин повыровнял голос и рассказывал в зале что-то о Киприде. Все слышались мне имена Гнатэны, Праксителя, Фрины Мегарянки.
Дело шло здесь о том, как она, эта Фрина,
…не внимая
Шепоту ближней толпы, развязала ремни у сандалий,
Пышных волос золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и пояс лилейной рукой разрешила;
Сбросила ризы с себя и, лицом повернувшись к народу,
Медленно, словно заря, погрузилась в лазурную воду.
Ахнули тысячи зрителей, смолкли свирель и пектида;
В страхе упав на колени, все жрицы воскликнули громко:
«Чудо свершается, граждане! Вот она, матерь Киприда!».
– Ну-с; и с тех пор ею плененный Пракситель навеки оставил Гнатэну, и ушел с Мегарянкою Фрине, и навеки ее сохранил в своих работах. А когда он вдохнул ее в мрамор – то мрамор холодный стал огненной Фриной, – рассказывал Мане Истомин, – вот это и было то чудо.
– А бабушка давно закатилась? – спросил я, наконец, Иду.
Девушка хотела мне кивнуть головою; но на половине слова вздрогнула, быстро вскочила со стула и громко проговорила:
– Вот, слава богу, и мамаша!
С этими словами она собрала горстью набросанную на окне скорлупу, ссыпала ее проворно в тарелку и быстро пошла навстречу матери. Софья Карловна действительно в это время входила в дверь магазина.
В эти же самые минуты, когда Ида Ивановна встречала входящую мать, я ясно и отчетливо услыхал в зале два, три, четыре раза повторенный поцелуй – поцелуй, несомненно, насильственный, потому что он прерывался робким отодвиганием стула и слабым, но отчаянным «бога ради, пустите!»
Теперь мне стали понятны и испуг Иды и ее радостный восклик: «Вот и мамаша!»
Это все было совершенно по-истомински и похоже как две капли воды на его всегдашние отношения к женщинам. Его правило – он говорил – всегда такое: без меры смелости, изрядно наглости; поднесите все это женщине на чувствительной подкладке, да не давайте ей опомниваться, и я поздравлю вас с всегдашним успехом.
Здесь были и смелость, и наглость, и чувствительная подкладка, и недосуг опомниться; неразрешенным оставалось: быть ли успеху?.. А отчего и нет? Отчего и не быть? Правда, Маня прекрасное, чистое дитя – все это так; но это дитя позволило насильно поцеловать себя и прошептала, а не прокричала «пустите!» Для опытного человека это обстоятельство очень важно – обстоятельство в девяносто девяти случаях изо ста ручающееся нахалу за непременный успех.
Так точно думал и Истомин. Самодовольный, как дьявол, только что заманивший странника с торной дороги в пучину, под мельничные колеса, художник стоял, небрежно опершись руками о притолки в дверях, которые вели в магазин из залы, и с фамильярностью самого близкого, семейного человека проговорил вошедшей Софье Карловне:
– Тебя, о матерь, сретаем собрашеся вкупе! Приди и открой нам объятия отчи!
– Ах, Роман Прокофьич! – отвечала старуха, снимая с себя и складывая на руки Иды свой шарф, капор и черный суконный бурнус.
– И вы тоже! – обратилась она, протянув другую руку мне. – Вот и прекрасно; у каждой дочери по кавалеру. Ну, будем, что ли, чай пить? Иденька, вели, дружочек, Авдотье поскорее нам подать самоварчик. А сами туда, в мой уголок, пойдемте, – позвала она нас с собою и пошла в залу.
В зале, у небольшого кругленького столика, между двумя тесно сдвинутыми стульями, стояла Маня. Она была в замешательстве и потерянно перебирала кипу желтоватых гравюр, принесенных ей Истоминым.
– Рыбка моя тихая! что ж это ты здесь одна? – отнеслась к ней Софья Карловна.
Маня посмотрела с удивлением на мать, положила гравюру, отодвинула рукою столик и тихо поправила волосы.
– Тебя, мою немэшу, всегда забывают. Молчальница ты моя милая! все-то она у нас молчит, все молчит. Идка скверная всех к себе позабирает, а она, моя горсточка, и сидит одна в уголочке.
– Нет, мама, со мною здесь Роман Прокофьич сидел, – тихо ответила Маня и нежно поцеловала обе материны руки.
На левой щечке у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здесь к ее лицу прикасались жадные уста удава.
– Роман Прокофьич с тобой сидел, – ну, и спасибо ему за это, что он сидел. Господи боже мой, какие мы, Роман Прокофьич, все счастливые, – начала, усаживаясь в своем уголке за покрытый скатертью стол, Софья Карловна. – Все нас любят; все с нами такие добрые.
– Это вы-то такие добрые.
– Нет, право. Ах, да! что со мной сейчас было…
Софья Карловна весело рассмеялась.
– Здесь возле моих дочерей, возле каждой по кавалеру, а там какой-то господин за мною вздумал ухаживать.
– Как это, мамаша, за вами? – спросил Истомин, держась совсем членом семейства Норков и даже называя madame Норк «мамашей».
– Да так, вот пристал ко мне дорогой в провожатые, да и только.
Мы все рассмеялись.
– Ну, я и говорю, у Бертинькиного подъезда: «Очень, говорю, батюшка, вам благодарна, только постойте здесь минуточку, я сейчас зайду внучков перекрещу, тогда и проводите, пожалуйста», – он и драла: стыдно стало, что за старухой увязался.
– Молодец моя мама! – похвалила уставлявшая на стол чайный прибор Ида.
– Да, вот подите, право, какие нахалы! Старухам, нам, уж и тем прохода нет, как вечер. Вы знаете ведь, что с Иденькой в прошлом году случилось?
– Нет, мы не знаем.
– Как же! поцеловал ее какой-то негодяй у самого нашего дома.
– Вот как, Ида Ивановна! – отозвался, закручивая ус, Истомин.
– Да-с, это так, – довольно небрежно ответила ему, обваривая чай, Ида.
– Ты расскажи, Идоша, как это было-то.
– Ну что, мама, им-то рассказывать; это еще и их, пожалуй, выучишь этому секрету.
– Ну, полно-ка тебе врать, Ида.
– Мне даже кажется, что Роман Прокофьич в этом чуть ли не участвовал.
– В чем это? Бог с вами, Ида Ивановна, что это вы говорите?
– А что ж, ведь вы тогда не были с нами еще знакомы?
– Ну да, как же! станет Роман Прокофьич… Перестань, пожалуйста.
– Перестану, мама, извольте, – отвечала Ида с несколько комической покорностью и стала наливать нам стаканы.
Во все это время она не садилась и стояла перед самоваром на ногах.
– Видите, – начала Софья Ивановна, – вот так-то часто говорят ничего, ничего; можно, говорят, и одной женщине идти, если, дескать, сама не подает повода, так никто ее не тронет; а выходит, что совсем не ничего. Идет, представьте себе, Иденька от сестры, и еще сумерками только; а за нею два господина; один говорит: «Я ее поцелую», а другой говорит: «Не поцелуешь»; Идочка бежать, а они за нею; догнали у самого крыльца и поцеловали.
– Так и поцеловали?
– Так и поцеловали.
– Ида Ивановна! да как же вы это оплошали? Как же вас поцеловали, а? – расспрашивал с удивлением Истомин.