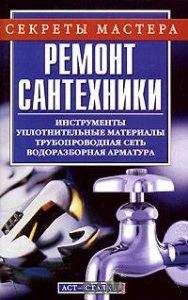Я Горбов - Асунта
- Мадлэн, - вставила старушка, - мне сказала, что боится и не придет сюда до твоего приезда. Она тебя ждет.
Она добавила, что благодаря распорядительности господина Опика все формальности уже выполнены, мэрия, бюро похоронных {73 процессий, аббат предупреждены, вынос тела, служба, похороны, - все предусмотрено. Филипп сознался, что дорога его очень утомила и что он хотел бы поскорее домой пообедать и отдохнуть. Его квартира была в самом центре города. Теперь, конечно, предстояло переехать в особняк, где он провел все детство и юность, вплоть до женитьбы. "Раз я буду душой дела..." - подумал он, чуть иронически. Раздался звонок, и донеслись шум шагов и голоса. Дверь распахнулась. Вошел Фердинанд Дюфло, его тесть.
Он был на десять лет старше Франсуа Крозье и назвать его долгую жизнь спокойной и уравновешенной нельзя было никак. После довольно бурного, почти беспутного мальчишества, он и женившись не очень угомонился. Все его манило и мало в чем он себе отказывал. Подчиниться строгим домашним правилам, которые захотела установить его молодая жена, ему было так тягостно, что он не замедлил разрешить себе всякие поиски и всякие вольности. Ему нужно было много денег. У него были большие способности и, много работая, он раздобыл много денег. Ему была нужна независимость. Он ее раздобыл, став домашним тираном. В известном смысле он "поставил большую ставку" и ставку эту выиграл. При этом он не переставал любить свои моторы внутреннего сгорания и ревниво отстаивал права единоличного владельца фабрики. Однако, силы его не были неистощимыми и когда ему пришлось признать, что одной воли, для того, чтобы продолжать такую жизнь, мало, то он и пошел на соединение своего предприятия с предприятием Крозье. Брак Мадлэн с Филиппом, полагал он, будет гарантией его стариковского спокойствия. Ему было семьдесят четыре года, но выглядел он так, точно ему было восемьдесят пять. Память и ясность его мыслей, за последнее время, сдавали, что мешало непрерывной деятельности. Но он продолжал время от времени вмешиваться в разрешение того или иного вопроса, и тогда проницательность его и его властность казались непоколебленными. Филипп все это знал, и когда Дюфло вошел, тотчас насторожился. Немедленное столкновение из-за открывшегося наследства не было исключено. Верный принятому им правилу быть с тестем неизменно почтительным, он заковылял ему навстречу.
- Здравствуй, Филипп. - проговорил старик. - Мне сказали, что ты приехал и я поспешил сюда, чтобы тебя обнять.
- Благодарю, душевно тронут, - ответил Филипп принимая объятие и отвечая тем же.
- Как раз ты был в отсутствии. Не вовремя ты возобновил свои поездки в Париж.
- Это не больше чем совпадение. Но, конечно, это печально.
- Ты еще не видел жены?
- Нет еще. Я к ней сейчас собираюсь.
- Она очень расстроена.
- Это понятно.
{74} - Подумай о фабрике. Все теперь ляжет на твои плечи. Но я еще тут, если нужно помочь: советом, делом!
- Вы знаете, как я ценю ваш опыт и вашу компетентность.
- Да, да. Но не теряй времени, это главное.
- Разве я этим грешил?
- Нет. Но чтобы дело продолжало крепко стоять на ногах, надо все предусматривать. Я нарочно поспешил, чтобы тебе об этом напомнить. Возможно, что некоторые не дремлют. Теперь я еще раз поклонюсь покойному другу.
Они прошли в спальню и молча постояли у кровати, глядя на покойника, минуты три.
- Я еду домой, - сказал Филипп.
- Вот и хорошо. Утешь жену, - ответил старик и они распрощались.
По дороге Филипп был спокоен думая о подробностях предстоявшей ему новой роли, о связанных с ней усилиях, о том, что ему нельзя будет ни на минуту утрачивать контроль над собой и позволять мыслям разбегаться. На это он решался. На то, чтобы фабрика стала его главным, если не единственным, жизненным побуждением, он был согласен. И, казалось ему, он найдет в себе достаточно решимости чтобы... не допустить ничего. "Ни-че-го", пробормотал он.
Когда он проник в вестибюль, то, прежде всего, увидал в большом стенном зеркале самого себя, с костылями, поднимавшими плечи, с огромной, завернутой в черный шелк ступней, с трудом двигающимся.
"А шрамы, - подумал он, - только берет их скрывает...".
На мгновение он был охвачен чем-то похожим на отчаяние и ему показалось, что лишь одно есть у него средство с собою совладать: поговорить с Асунтой и увидать ее улыбку. Но тотчас же пробормотал:
- Не сейчас же?
Выйдя из лифта он обнаружил, что у него нет ключа и позвонил. Открыла горничная, которая испуганно ему сообщила, что его жена в постели и с самого утра ничего не ела. Филипп прошел в спальню не сняв даже пальто. Мадлэн лежала с мокрым полотенцем на голове. На его привет она ответила улыбкой девочки, потом губы ее задрожали и она стала плакать.
- Как тебе трудно, мой милый, как тебе трудно. А я сама без сил и не могу тебя ободрить...
И что-то прибавила насчет несчастий, которые всегда приходят по нескольку сразу. "Крушение, ступня, шрамы и вот теперь... смерть".
Он присел на край кровати и она стала рыдать.
- Не мучь себя, - промолвил он, тихо. - Конечно потерять отца горе. Но что можно сделать другое, как с ним не примириться.
В сущности он не знал, что сказать. Мадлэн явно больше была расстроена его сыновним горем, чем кончиной свекора, от которого всегда была далекой. Задетой была по-видимому какая-то составная часть ее любви к мужу. И утешать должен был он, а утешать он не {75} умел, не знал, какие нужны слова. Не пытаясь даже найти что-нибудь подходящее, он стал говорить общепринятые фразы, те, которые все и всегда повторяют, сочтя, что раз они так долго всем служили, то, значит, они самые верные. Но он был глубоко тронут. Кроме того он был утомлен и дорогой, и чередой впечатлений, и непрерывным волевым усилием, и горем, которое оказалось большим, чем он мог предполагать, и был еще слегка взволнован словами и тоном Фердинанда Дюфло, и время от времени его охватывавшими, независимо от всего прочего, мыслями о той, о другой... Он как бы оглянул сложившееся вокруг него сцепление обстоятельств и на несколько минут погрузился в некое мечтательное созерцание, - состояние, ему до той поры бывшее неведомым и которое никогда больше не повторилось. И точно издали, точно приглушенный, донесся до него тогда голос Мадлэн:
- Что с тобой, мой дорогой?
Он посмотрел на нее взглядом лунатика: он видел, но еще не понимал. И только секундой спустя, овладев собой и покинув "мир иной", в котором душу его подвергли перекрестному допросу, различив в глазах Мадлэн и испуг, и сияние, он произнес:
- Ничего, ничего. Немного усталости. Это сейчас пройдет. Ни о чем не тревожься. Я все устрою. Ты будешь счастлива.
Так сказав, он явственно ощутил полную в себе уверенность и точно определил, к какой будет стремиться цели, и точно взвесил, что надо прежде всего предпринять и как, и каким, основным руководствоваться правилом.
24. - НОЧЬЮ
"...очень большие, но невообразимо плохо обработанные дарования. Такое малозавидное состояние влечет за собой удесятеренное неистовство их молчании. Конечно это метафора: в действительности, слов они произносят очень много. Только так эти слова ничтожны, что ни за что иное, как за молчание, их счесть нельзя. На их головы надеты высококачественные шляпы. Само собой напрашивается заключение, что единственное назначение их голов, это носить шляпы. О! Как хотел бы я вас всех прижать к груди и навсегда сделать сестрами и братьями!..."
Савелий отстранил листок, глубоко вздохнул и оглянул комнату, в которой царили совершеннейший порядок и полная чистота - плоды его самоотверженных усилий. На коротенькое мгновение он усумнился в правильности решения поселиться у Варли и почти прошипел:
- Может тут и взаправду ад, в который контрабандой протащили немного надежды?
Но незамедлительно упрекнул себя в духовной слабости. Со дня переезда не прошло еще и двух недель и если за это время создалась тяжелая атмосфера, то было это, главным образом, {76} результатом крайней нервности Асунты во-первых, и болезни Варли во-вторых. Но здоровье старика улучшалось. Асунта же замкнулась во враждебном молчании, с чем Савелий, скрепя сердце, мог мириться. От готовки она прямо не отказалась, но готовила так небрежно, что Савелий, по большей части, брал стряпню на себя, хоть это и отнимало у него еще время и прибавляло усталости.
- Листки, которые вы мне даете, особенно удачны, особенно существенны? - спросил он как-то старика.
- Нет. Все одинаково важно. Те листки, которые я вам даю, только тогда приобретают особое значение, когда я их изымаю из папок.
Речь в последнем отрывке шла о проповеди в долине. Начиналось с описания зеленых склонов, освещенных нежным солнцем, что располагало к хорошему настроению. Молельщики подходили небольшими группами. Они пели приятные песни, смеялись, шутили, были очевидно вполне довольны. На женщинах пестрели легкие платья, мужчины выглядели щеголевато. И до счастливых ушей этих счастливых людей доносился музыкальный, проникновенный голос, произносивший сложенные в округлые фразы, ободряющие слова, насыщенные, к тому же, задушевностью и благорасположением. Оратор говорил из обвитой диким виноградом беседки и виден не был.