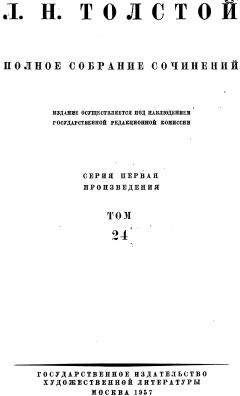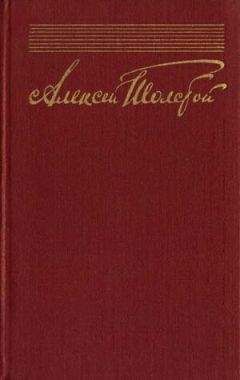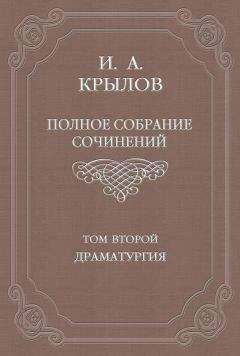Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 11. Война и мир. Том третий
XX.
У Ростовых, как и всегда по воскресениям, обедал кое-кто из близких знакомых.
Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.
Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что очевидно легко носил свою толщину.
Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до 12-го часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.
Первое лицо, которое он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела солфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.
― Я хочу попробовать опять петь, ― сказала она. ― Всё-таки это занятие, ― прибавила она, как будто извиняясь.
― И прекрасно.
― Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! ― сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. ― Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.
― Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, ― прибавил он, и хотел пройти в гостиную.
Наташа остановила его.
― Граф! что это дурно, что я пою? ― сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.
― Нет... Отчего же? Напротив... Но отчего вы меня спрашиваете?
― Я сама не знаю, ― быстро отвечала Наташа, но я ничего бы не хотела сделать, чтò бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали!... ― Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. ― Я видела в том же приказе он, Болконский (быстро шопотом проговорила она это слово), — он в России и опять служит. Как вы думаете, ― сказала она быстро, видимо торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, ― простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?
― Я думаю... ― сказал Пьер. ― Ему нечего прощать... Ежели бы я был на его месте... ― По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.
― Да вы ― вы, ― сказала она, с восторгом произнося это слово вы, ― другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, чтò бы было со мною, потому что... ― Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась,, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.
В это же время из гостиной выбежал Петя.
Петя был теперь красивый, румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.
Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
Он просил его узнать, примут ли его в гусары.
Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.
Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.
― Ну что мое дело, Петр Кирилыч, ради Бога! Одна надежда на вас, ― говорил Петя.
― Ах да, твое дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу всё.
— Ну чтό, mоn cher,[55] ну чтό достали манифест? ― спросил старый граф. ― А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.
― Достал, ― отвечал Пьер. ― Завтра государь будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.
— Да, да, слава Богу. Ну, а из армии чтό?
― Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, ― отвечал Пьер.
― Боже мой, Боже мой! — сказал граф. — Где же манифест?
— Воззвание! Ах, да! — Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.
— Ей богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он.
— Ну уж вечно растеряет всё, — сказала графиня. Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.
— Ей Богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно...
— Ну, к обеду опоздаете.
— Ах, и кучер уехал. — Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.
— Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо в этом чтении предвидевший большое удовольствие.
За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.
— Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французcки. Теперь не время.
— А слышали? — сказал Шиншин. — Князь Голицын русского учителя взял, — по-русски учится — il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues.[56]
— Ну чтό ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье-то собирать будут, и вам придется на коня? — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.
Пьер был молчалив и задумчив во всё время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.
— Да, да, на войну, — сказал он, — нет! Какой я воин! — А впрочем всё так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.
«Первопрестольной столице нашей Москве.
«Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.
Наташа сидела, вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.
Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, чтò первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, чтò скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.
Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»
— Вот это так! — вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили стклянку с крепкою уксусною солью. — Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.
Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.
— Чтό за прелесть, этот папа! — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.
— Вот так патриотка! — сказал Шиншин.
— Совсем не патриотка, а просто... — обиженно отвечала Наташа. — Вам всё смешно, а это совсем не шутка...
— Какие шутки! — повторил граф. — Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...