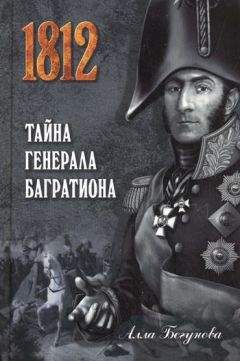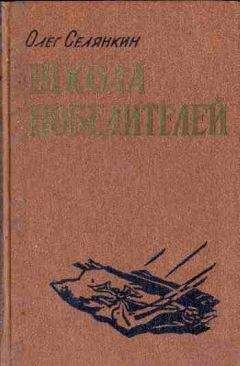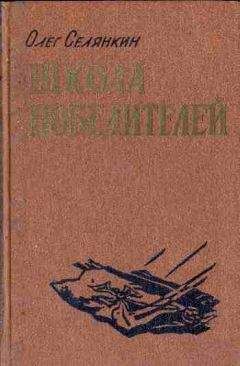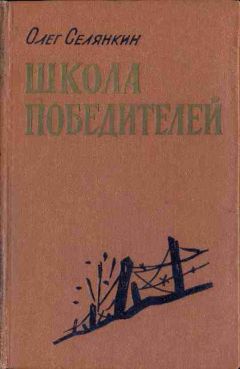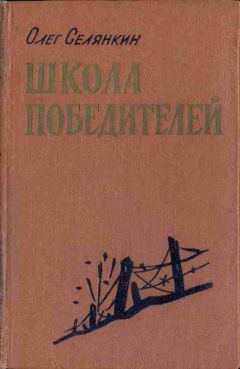Петр Якубович - В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
– Кто же мясо крадет?
– Кто! … Да разве там мало причиндалов, на кухне-то? Cтароста, повара, дневальные, костогрызы…
– Это что за костогрызы?
Которые кости грызут: жиганы, которые проигрался, и есть нечего. Порцию-то свою иной за месяц вперед спустит. Ну, и толчется в кухне, когда мясо крошат. Иваны тоже у старосты и у поваров покупают.
– А как же я слышал, будто у арестантов строго преследуется воровство в тюрьме, у своего брата?
– Это точно. Самым последним человеком тот считается у нас, кто у своих же ворует – табак там али сахар. И помни: ежели поймают вора в тюрьме, до смерти заколотят! Я сам всю жизнь вором был, чего таиться? Первой степени подлец и разбойник был; ну, а в тюрьме… Тут я честный человек и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажет, что я вот хоть с эстолько украл когда у своего брата арестанта!
– А разве не такое же воровство: красть у артели мясо?
– Нет, это разные вещи! У нас это воровством не считается.
– Какое же это воровство? – подтвердил Чирок с видом глубокого убеждения. – Тут с общего согласу. В старосты на поправку идут… А то из-за чего же и стараться? Артель с тем и выбирает. Никакого тут воровства нету.
– Вестимо, нету, – хором проговорила вся камера. Один Гончаров, как показалось мне, хитро посмеивался, куря свою трубку. Меня заинтересовала эта странная арестантская логика.
– Да ведь сами ж вы жалуетесь, – сказал я, – что казенный обед в других тюрьмах настоящие помои? Ведь этак нельзя жить целые годы:.замрешь!
– Там не замрешь! – отвечал мой собеседник. – Там у каждого есть деньги. Там я к казенной-то баланде за грех считал и притронуться. И баланду и кашу в Покровском у нас целыми ушатами надзирательским свиньям относили.
– Хорошо, если есть старательские, – не унимался я, – но не во всех ведь рудниках они есть, да и работать там могут только самые сильные.
– Да разве только старательские одни! Вы нашего брата еще не знаете, вы как дите малое: все-то вам разжуй да в рот положь…
– И то еще скажет: ложь! – срифмовал Железный Кот.
– У нас много доходных статей, и каждый может найти свою точку. Кто в карты выиграет, кто на стреме постоит, надзирателя покараулит – за это тоже свою долю получит; кто водкой торгует, кто из семейных пирожками, молоком, кто карты у себя держит. Да боже ты мой! Мало ли сколько изворотов найдет смекалистая башка! Прачка – тот полотенце мне выстирает, я ему заплатить сколько-нибудь должен, потому это не казенная работа. Другой болезнь какую измыслит себе, в больницу ляжет: молоко али мясо продаст за несколько дней – вот на табачишко и есть. А проигрался в пух и прах – казенную вещь можно спустить. Ну, конечно, шкурой иногда платиться приходится: так ведь это нашему брату то же, что в баньке попариться… Ха-ха-ха! Еще в пользу идет – кровь разгоняет… Таким вот манером и живут. Есть, положим, в тюрьме двести целковых – они так и идут из рук в руки колесом, не залеживаются долго у одного. Все на них и кормятся.
Эта любопытная финансовая теория была прервана звонком на обед, полагавшимся в одиннадцать часов утра, новым грохотом замка и появлением Гандорина с огромным баком щей в руках, знаменитой арестантской баланды. Мне она показалась чистейшими помоями: немного крупы в грязной воде, немного капусты, несколько неочищенных картофелин, множество тараканов и ни капли навару. Да и откуда мог взяться навар, если арестанты вынимали мясо из котла, едва дав ему свариться, так как в противном случае оно стало бы расползаться, и никакая дележка на порции была бы невозможна. Однако сожители мои единогласно похвалили шелайскую баланду и опростали до дна весь бак. Обстоятельство это сильно заставило меня усомниться в их рассказах о райском житье в других тюрьмах. Гончаров словно угадал мои мысли и, ложась на нары, опять заговорил:
– Хороша-то она хороша, только ежели на ней одной сидеть, так долго не протянешь. А придется, видно, сидеть. Вот в этой тюрьме, и мы скажем, большой был бы грех у артели воровать. Потому последние крохи… Ниоткуда больше не достанешь.
– Вестимо, ниоткуда! – уныло подтвердил Чирок и добавил, подходя ко мне: – Позвольте табачку на папироску.
За ним безмолвно потянулись к моему кисету Тарбаган и другие. Совершив это священнодействие, все полегли на нары и, казалось, погрузились в созерцание предстоящего горького будущего. Все замолчало, и скоро в камере послышался дружный храп. Это настал послеобеденный отдых. В пять часов раздался звонок на ужин. Принесли размазню из гречневой крупы, жидкую, как суп, и невыразимо отвратительную на вкус; долгое время, пока не выработалась привычка, мне слышался в ней запах псины… Вскоре же после ужина подали вечерний чай. В шесть часов камеры отперли для вечерней поверки. По коридору раздался оглушительный свисток, за которым последовал взволнованный крик надзирателя:
– Вылазь на поверку! Скорее стройся на дворе, сам начальник будет!
Напуганные всем предшествовавшим, арестанты впопыхах надевали халаты и сломя голову, толкая один другого, бежали во двор, где и строились в два ряда, камера отдельно от камеры. Дежурный надзиратель в белых перчатках бегал вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, делал нам предварительный счет. Наконец ударил звонок. Старший дежурный, стоявший за воротами, крикнул сквозь решетку: "Идет!" Все всколыхнулись, как море, откашлялись, высморкались – и стихли, замерли точно вкопанные. Сквозь решетчатые ворота видно было, как стоявшие праздно казаки испуганно побежали с улицы в караулку… И вот под ворота вступила крупная фигура Шестиглазого, в накинутой на плечи шинели и с тростью в руке, окруженная свитой надзирателей. Видно и слышно было, как старший надзиратель поспешно подбежал к нему и, сделав под козырек, произнес рапорт: "Господин начальник, при Шелаевском руднике все обстоит благополучно; в тюрьме находится…" Дальше нельзя было расслышать. Замок загремел, ворота распахнулись.
– Смир-р-но!! Шапки дол-ло-ой!! – скомандовал стоявший перед строем дежурный таким зычным голосом, что затрепетало бы и не робкое сердце.
Бритые головы моментально обнажились.
– Шапки надеть!
– На-кр-ройсь!! – Шапки очутились на головах. Дежурный быстрыми шагами подлетел к медленно подплывавшему Лучезарову и, сделав под козырек, отрапортовал скороговоркой:
– Господин начальник! В Шелаевской тюрьме все обстоит благополучно, в строю находится сто семьдесят человек, в лазарете восемь, арестованных два.
– Здравствуйте! – благодушно приветствовал его начальник, опуская руку, которую во время доклада тоже держал у козырька.
– Здравия желаем, ваше благородие! – гаркнули было кое-кто из арестантов, не поняв, что это приветствие относилось не к ним.
– Здравия желаю, господин начальник! – отвечал подобострастно надзиратель и быстро отскочил в сторону.
– Здорово, братцы! – возвышая голос и ближе подходя к строю, произнес Лучезаров.
– Здр-рав-вия желаем, господин начальник! – грянули, словно воспрянувшие от тяжелого сна, братцы; эхо далеко пронеслось за стены тюрьмы и долетело до самых сопок.
– Командуйте на молитву!
– На молитву! Шапки до-лой!
Арестантский хор, ставший по заранее сделанному распоряжению в середине строя, пропел довольно стройно и громогласно обычные молитвы.
– На-кройсь!
Шапки опять опустились на головы. Минуты две Шестиглазый стоял, безмолвно оглядывая арестантов, которые были ни живы ни мертвы.
– Вот что! – начал он повелительным голосом. – Сегодня, с моего дозволения, вы выбрали общего старосту, поваров и других артельных служителей. Пускай же они знают (да и вы все знайте!), что я не потерплю в моей тюрьме воровства. За каждый случай замеченного мошенничества в кухне, в больнице или на другой артельной должности я буду отдавать виновных под суд. Не говорю уже о том, что воровать у своих товарищей, даже с вашей арестантской точки зрения, позор и стыд. Знайте сверх того, что, кроме отпускаемых на котел казенных продуктов, я ничего пропускать в тюрьму не буду. Чай, сахар и табак можете выписывать на свои деньги только один раз в неделю и не больше как в назначенных мною размерах на одного человека. Никаких майданов я не допущу. Частных улучшений пищи также не дозволю. Не дозволю, чтоб одни ели лучше или хуже других! Другие тюрьмы мне не указ. Шелаевская тюрьма – образцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтоб она не на бумаге только была каторжной. Каторжный режим, по моему глубокому убеждению, должен быть также и пищевым режимом. Впрочем, если кто хочет, может отдавать свои деньги на улучшение пищи для всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантов по камерам!
– Первые три номера, направо! – Средние три номера, пол-оборота направо! – Последние три номера, налево!
– Шагом ма-арш!
Арестанты церемониальной поступью и в строгом порядке разошлись по своим местам, потихоньку толкуя между собой о "прижиме насчет пишши", который посулил им Шестиглазый.