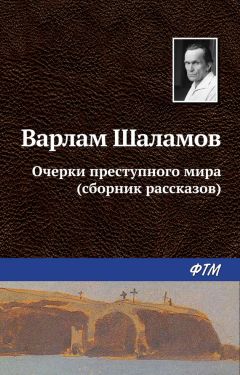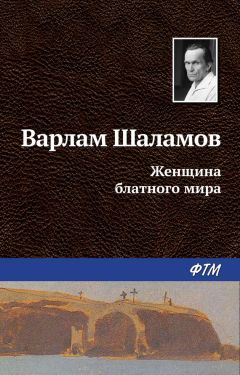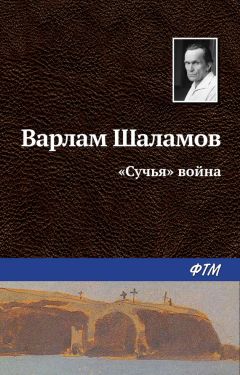Варлам Шаламов - Очерки преступного мира
Изложение воровских подвигов, делаемое всегда приукрашенно, в прославление воровских законов и воровского поведения, и составляет чрезвычайно опасную для молодежи романтическую приманку.
Каждый факт расписывается такими соблазнительными, такими привлекательными красками (на краски блатные не скупы), что слушатель-мальчик, попавший в среду блатарей (скажем, за первую кражу), увлекается, восхищается героическим поведением блатаря. Этот рассказ сплошь и рядом представляет собой чистую фантастику, выдумку ("Не веришь - прими за сказку!").
Все эти "ровные пачки заветных денег", брильянты, кутежи, особенно женщины - все это является актом самоутверждения, и ложь не считается тут грехом.
И хотя вместо грандиозного кутежа в "шалмане" была только скромная кружка пива в Летнем саду, выпрошенная в долг,- вранье это неудержимо.
Рассказчик уже "проверен" и может врать сколько влезет.
Чужие, слышанные на одной из тюремных пересылок, подвиги присваиваются вдохновенным вралем себе, и слушатели, в свою очередь, удесятерив краски, выдают чужое приключение за свое собственное.
Так делается уголовная романтика.
У юноши, подчас мальчика, кружится голова. Он восхищается, он хочет подражать своим живым героям. Он служит у них на посылках, глядит им в рот, подстерегает их улыбку, ловит каждое их слово. Собственно говоря, в тюрьме этому мальчику и приткнуться-то больше некуда, кроме как к ворам, ибо казнокрады и нарушители сельских законов отшатываются от таких молодых ворят, метящих в рецидивисты.
В этом хвастливом возвеличении собственной личности скрыт, несомненно, некий эстетический смысл, одномерный с художественной литературой. Если художественная проза блатаря - это "роман", изустное произведение, то подобные беседы есть вид устного мемуара. Здесь обсуждаются не технические вопросы воровских операций, а вдохновенно повествуется, как "Колька Смех заделал начисто мосла", как "Катька Городушница замарьяжила самого прокурора",словом, это - воспоминания на отдыхе.
Растлевающее значение их - огромно.
1959
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ВОРОВСКОЙ МИР
Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.
Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.
Этап, который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек так все было похоже на читанное раньше у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова... Была весна двадцать девятого года.
Пьяные конвоиры с безумными глазами, раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно - щелканье затворами винтовок. Сектант-федоровец, проклинающий "драконов"; свежая солома на земляном полу сараев этапных изб; таинственные татуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные поверки, переклички и счет, счет, счет...
Последняя ночь перед пешим этапом - ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:
И кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.
Рты у всех были именно голубыми, а лица - черными. Рты у всех кривились от боли, от многочисленных кровоточащих трещин на губах.
Однажды, когда идти почему-то было легче или перегон был короче, чем другие,- настолько, что все засветло расположились на ночевку, отдохнули,- в углу, где лежали воры, послышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:
Ты меня не любишь, не жалеешь...
Вор допел романс, собравши много слушателей, и важно сказал:
- Запрещенное.
- Это - Есенин,- сказал кто-то.
- Пусть будет Есенин,- сказал певец.
Уже в это время - всего через три года после смерти поэта - популярность его в блатных кругах была очень велика.
Это был единственный поэт, "принятый" и "освященный" блатными, которые вовсе не жалуют стихов.
Позднее блатные сделали его "классиком" - отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.
С такими стихотворениями, как "Сыпь, гармоника", "Снова пьют здесь, дерутся и плачут",- знаком каждый грамотный блатарь. "Письмо матери" известно очень хорошо. "Персидские мотивы", поэмы, ранние стихи - вовсе неизвестны.
Чем же Есенин близок душе блатаря?
Прежде всего, откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:
Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.
Блатари эти строки тоже хорошо помнят. Так же, как и более раннее (1915) "В том краю, где желтая крапива" и многие, многие другие стихотворения.
Но дело не только в прямых высказываниях. Дело не только в строках "Черного человека", где Есенин дает себе чисто блатарскую самооценку:
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.
Какие же родственные нотки слышат блатари в есенинской поэзии?
Прежде всего, это нотки тоски, все, вызывающее жалость, все, что роднится с "тюремной сентиментальностью".
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Стихи о собаке, о лисице, о коровах и лошадях - понимаются блатарями как слово человека, жестокого к человеку и нежного к животным.
Блатари могут приласкать собаку и тут же ее разорвать живую на куски - у них моральных барьеров нет, а любознательность их велика, особенно в вопросе "выживет или не выживет?". Начав еще в детстве с наблюдений над оборванными крыльями пойманной бабочки и птичкой с выколотыми глазами, блатарь, повзрослев, выкалывает глаза человеку из того же чистого интереса, что и в детстве.
И за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа. Они не воспринимают этих стихов с трагической серьезностью. Им это кажется ловкой рифмованной декларацией.
Нотки вызова, протеста, обреченности - все эти элементы есенинской поэзии чутко воспринимаются блатарями. Им не нужны какие-нибудь "Кобыльи корабли" или "Пантократор". Блатари - реалисты. В стихах Есенина они многого не понимают и непонятное - отвергают. Наиболее же простые стихи цикла "Москвы кабацкой" воспринимаются ими как ощущение, синхронное их душе, их подземному быту с проститутками, с мрачными подпольными кутежами.
Пьянство, кутежи, воспевание разврата - все это находит отклик в воровской душе.
Они проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России - все это ни капли не интересует блатарей.
В стихах же, которые им известны и по-своему дороги, они делают смелые купюры - так, в стихах "Сыпь, гармоника" отрезана блатарскими ножницами последняя строфа из-за слов:
Дорогая, я плачу,
Прости... Прости...
Матерщина, вмонтированная Есениным в стихи, вызывает всегдашнее восхищение. Еще бы! Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой многоэтажной, самой совершенной матерной руганью - это лексикон, быт.
И вот перед ними поэт, который не забывает эту важную для них сторону дела.
Поэтизация хулиганства тоже способствует популярности Есенина среди воров, хотя, казалось бы, с этой стороны он в воровской среде не должен был иметь сочувствия. Ведь воры стремятся в глазах фраеров резко отделить себя от хулиганов, они и в самом деле - явление вовсе иное, чем хулиганы,- неизмеримо опаснее. Однако в глазах "простого человека" хулиган еще страшнее вора.
Есенинское хулиганство, прославленное стихами, воспринимается ворами как происшествие их "шалмана", их подземной гулянки, бесшабашного и мрачного кутежа.
Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.
Каждое стихотворение "Москвы кабацкой" имеет нотки, отзывающиеся в душе блатаря; что им до глубокой человечности, до светлой лирики существа есенинских стихов.
Им нужно достать оттуда иные, созвучные им строчки. А эти строчки есть, тон этот обиженного на мир, оскорбленного миром человека - есть у Есенина.
Есть и еще одна сторона есенинской поэзии, которая сближает его с понятиями, царящими в блатарском мире, с кодексом этого мира.
Дело идет об отношении к женщине. К женщине блатарь относится с презрением, считая ее низшим существом. Женщина не заслуживает ничего лучшего, кроме издевательств, грубых шуток, побоев.
Блатарь вовсе не думает о детях; в его морали нет таких обязательств, нет понятий, связывающих его с "потомками".