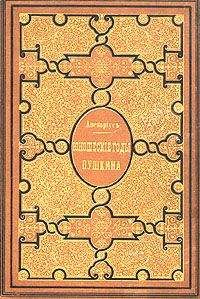Василий Авенариус - Отроческие годы Пушкина
— Как черт перед своей бабушкой? — договорил Кюхельбекер, чтобы заявить и свое знание тонкостей русского языка.
— Перед заутреней, хочешь ты сказать? — поправил его Илличевский и продолжал: — А Пилецкому он так-таки змеей в самую душу влез. Я даже подозреваю, господа, что он наушничает ему про нас.
— И я тоже! — подхватил опять Кюхельбекер.
— И ты тоже наушничаешь? — рассмеялся Пушкин.
— Да ну его, этого Гурьева, Бог ему судья! — прервал Дельвиг. — Если вам угодно, господа, я тоже могу теперь кое-что порассказать из действительной жизни, и даже из своей собственной.
И молодой барон начал рассказ о походе 1807 года, в котором он будто бы случайно участвовал, сопровождая одного старшего родственника. Рассказ его был так ловко веден, обставлен такими мелкими подробностями, что товарищи просто заслушались и почти готовы были ему верить. Простодушный же дядька Кемерский, действительный участник описываемого похода, поверил всему безусловно и только поддакивал:
— Все это, как Бог свят, истинная правда!
Тут, увидав допитые стаканы, он с досадой почесал в затылке.
— Экая жалость, право! Надоть идти, а смерть как охотно бы еще послушал… Батюшка барон! Сделайте такую божескую милость, не досказывайте теперича: ужо завтра, что ли, послезавтра доскажете, и меня, старика, позовите.
— Ладно, будь по-твоему, — улыбнулся барон. — Что с ним поделаешь, господа? Надо уважить старика. Рассказывай теперь кто-нибудь другой.
И рассказы возобновились. Но усталость взяла свое… Когда на рассвете надзиратель Пилецкий заглянул в карцер, то застал всех арестантов спящими в самых разнообразных позах. Четверо держались еще кое-как на своих табуретах: Пущин и Дельвиг — прислонясь — один к стене, другой к окошку, Илличевский и Корсаков — прислонясь друг к другу; двое же остальных оказались на полу; Пушкин — прикорнув в углу, вытянув одну ногу, а Кюхельбекер, припав щекою к этой ноге, как к подушке, растянулся во весь рост и издавал здоровый храп. Пилецкому стоило немалого труда растолкать и поднять их на ноги; но и стоя на ногах они только хлопали посоловевшими глазами и зевали во весь рот, вряд ли хорошо понимая смысл назидательного поучения надзирателя, что таким сокращением своего ареста они обязаны-де исключительно особой снисходительности директора Василия Федоровича.
— Да и моей уступчивости, — добавил он. — А как вы, милые мои, время проводили? До меня дошли слухи, будто в рассказах.
— А разве и этого нельзя? — ощетинился Илличевский, прежде других очнувшийся от сна.
— Напротив, дорогой мой, занятие прекрасное, которое я со своей стороны советовал бы вам и впредь продолжать заместо разных дурачеств. А еще лучше было бы, ежели бы вы дали себе труд записывать ваши рассказы. Вы могли бы, таким образом, составить некое литературное общество, члены коего обязаны были бы представлять каждый на суд собратьев по одной письменной работе в неделю, что ли, в две недели… Да вы, я вижу, спите еще, друзья мои, не слышите меня! Ступайте-ка сперва умойтесь, освежитесь, а там опять потолкуем.
Этим и кончилась история первого ареста лицеистов. Одного Дельвига только директор Малиновский потребовал днем к себе и заставил пересказать свои воинские подвиги, о которых ему, как и Пилецкому, отрапортовал с наивным энтузиазмом дядька Кемерский. Дельвиг почти дословно передал свой вчерашний рассказ.
— И все это в самом деле было? — усомнился Малиновский.
— Было, — отвечал хладнокровно Дельвиг, не моргнув и глазом.
После того несколько вечеров подряд около него собиралась кучка товарищей и инвалидов-дядек, под главенством «наибольшего», Леонтия, которые все горели нетерпением услышать продолжение удивительных приключений молодого барона. Уж долго спустя после того Дельвиг признался наконец, что все рассказанное им было не более как плод его фантазии, но что ему совестно было повиниться в этом слушавшему его с таким вниманием уважаемому директору.
Глава XIV
Первый расцвет лицейской Музы
Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует…
"К Языкову"Заключение в карцер имело для лицеистов два важных последствия: во-первых, штрафной билет был навеки отменен; во-вторых, высказанная Пилецким мысль, чтобы лицеисты основали из среды своей литературное общество, действительно была осуществлена ими; причем, однако, новое общество вскоре получило такое развитие и приняло такое направление, каких, конечно, не предвидел и не мог желать сам надзиратель. В первые дни все ограничивалось устными рассказами собиравшихся в кружок лицеистов, слушавших особенно охотно Дельвига. В молодом бароне точно было два отдельных существа — обязательные занятия были для него мукой: он постоянно просыпал первый урок, засыпал даже во время класса, в играх товарищей никогда не участвовал, — словом, был олицетворением неподвижности и лени; а между тем, дав раз волю своей фантазии, он увлекался до того, что мог как никто другой сочинить самую замысловатую, таинственную историю и в конце концов распутать все узлы и узелки ее так искусно, что любо-дорого было слушать. Помериться с ним по этой части мог разве один Пушкин, но рассказы последнего, напротив, поражали своею классическою простотою и естественностью. Так, лицеистам тогда же довелось услышать от него два рассказа — «Метель» и «Выстрел», которые только 20 лет спустя сделались достоянием всей читающей публики в числе так называемых "Повестей Белкина".
Для разнообразия устраивалась мальчиками иногда и общая литературная игра, немало их забавлявшая и состоявшая в том, что каждый из них должен был по очереди продолжать вымышленную историю с того места, где оборвал ее его предшественник. Само собой разумеется, что выходившие из этой литературной кухни блины были недоквашены, недопечены или перепечены, но самим поварам они приходились как нельзя более по вкусу, подобно тем незатейливым блинчикам, что месят и пекут на своей игрушечной кухне маленькие дети из полученных от матери горсточек муки, сахара и коринок.
Наконец в первых числах декабря того же 1811 года приступили и к письменным опытам. Начало было сделано Илличевским, представившим на суд товарищей стихотворение свое: "Сила времени". Автор немало над ним потрудился, и оно действительно вышло настолько удачно, что невзыскательными судьями было признано единогласно превосходным.
— Хоть сейчас в печать! — говорили они. — Что бы тебе, Илличевский, в самом деле в какой-нибудь журнал послать?
— Идея, господа! — воскликнул тут Корсаков, ближайший друг Илличевского, ради компании с которым он также просидел намедни в карцере. — Да отчего бы и нам самим не издавать журнала? Первою статьею так и поместили бы "Силу времени" Олосеньки (Олосенькой называли лицеисты Илличевского вместо Алексей).
От маленького и тщедушного, застенчивого и неразговорчивого Корсакова, не обращавшего на себя до сих пор ничьего внимания, никто не ожидал такой прыти.
— И то, господа, — покровительственно поддержал его польщенный Илличевский, — идея вовсе не дурная. Только моих стихов, конечно, нечего ставить на первый план. Скорее рассказ Дельвига о его военных похождениях.
— Ну нет, брат, не дождешься, — лениво улыбнулся в ответ Дельвиг, — писать для меня каторга.
— Голубчик, Тосенька, умоляю тебя! — пристал к нему Корсаков, хватая его нервно за обе руки. — Ведь все уж у тебя в голове; стоит тебе только взять перо…
— Легко сказать: взять перо! Возьмешь его — так и води по бумаге, вырисовывай каждую букву, да еще обдумывай каждую фразу, каждое выражение, чтобы слова лишнего не сказать. Нет, братцы, меня уж, сделайте милость, увольте. Вот Пушкин — другое дело: за словом в карман не полезет; ему и книги в руки; он вам мигом накатает историю своего прадеда, арапа Петра Великого.
— История арапа для меня слишком дорога, чтобы писать ее как-нибудь, с плеча, — отозвался Пушкин, — я храню ее для крупного романа, который, может быть, и сочиню когда-нибудь, когда вырасту…
— И когда вырастет и талант твой? — досказал Дельвиг. — Это, верно, слишком драгоценная тема!
— Ах ты, Господи! — вздыхал Корсаков. — А я так уж радовался, что журнал мой состоится… Ну, дай хоть свой «Выстрел» или "Метель".
— Если успею — с удовольствием.
— А я дам тебе лучший кусочек из моей "Грозы С-т Ламберта", — вызвался тут сам Кюхельбекер.
— Уж если Виленька даст свой "лучший кусочек", то дело в шляпе! — подтрунил зубоскал Гурьев.
— Не смей называть меня Виленькой! — огрызнулся на него Кюхельбекер. — Я не раз уж просил тебя…
— Экой чудак, право! Ведь мамаша твоя тебя так называет…
— То мамаша, а то ты!