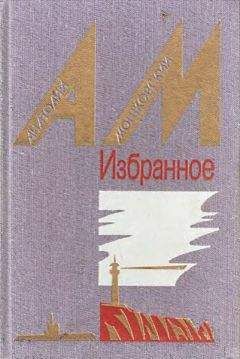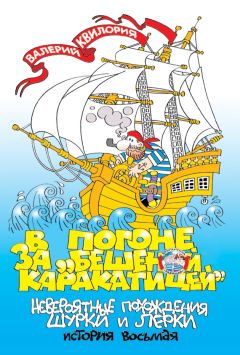Рудольф Ольшевский - Фамилия не соответствует
Женьке было ужасно неудобно. Он понимал, что капитан советует из лучших побуждений. Наверное, он совершил непростительную ошибку. Столько вокруг русских, украинцев, казаков, чукчей. А он возьми и родись от еврея. Но мало того. Сейчас, когда есть возможность исправить этот генетический проступок, притом без всякой липы, -- мама относится к нации отца народов, может быть, на каком-то уровне пересеклись их генеалогические корни, а он, Женька Ермолаев, родственник Иосифа Джугашвили, -- теперь, когда есть возможность, чтобы восторжествовала эта историческая справедливость, он, презренный иудей, не желает с низшей национальной ступеньки взлететь на высочайшую. Не поднимая глаз, Ермолаев стал торопливо оправдываться:
-- Нет-нет. Спасибо. Понимаете, папа погиб на фронте. Неудобно перед его памятью. Пишите еврей.
В этот момент начальнику показалось, что глаза товарища Сталина налились кровью, а ухо на державном портрете стало подергиваться.
Внутренний голос капитана перестал напевать грузинскую мелодию. Он несколько раз моргнул, чтобы избавиться от галлюцинации, а затем твердым государственным голосом Левитана, перечеркивающим минутную слабость, произнес:
-- И правильно, товарищ Ермолаев. У нас все народы равны. Поздравляю с совершеннолетием.
Когда Женька ушел, капитан снова посмотрел на портрет и, уже не стесняясь, так как посторонних не было, сказал еще не поверженному, но уже покойному генералиссимусу:
-- Хороший хлопчик, товарищ Сталин. Жалко хлопчика. Нахлебается он со своим еврейством.
-- Добрый ты человек, капитан. В тридцать седьмом, наверное, служил на Севере?
Начальник вздрогнул. Снова протер глаза и крикнул, словно пропускал по одному строй:
-- Следующий!
А вечером мы собрались отметить Женькино совершеннолетие.
-- Хорошо, что я родился летом. -- Смеялся он. -- Родись я зимой, и мы отмечали бы совершеннозимие.
Как всегда в таких случаях, мы садились на скамеечки и ступеньки возле наших дверей, выходящих прямо на улицу. На табуретке, накрытой газетой, стояла бутылка самого дешевого вина, отломанный кусками хлеб и варварски разорванная, как после погрома, еврейская колбаса по два рубля пятьдесят копеек за килограмм.
Мы пировали в плавках. Впрочем на нас был коричневый шевиотовый загар. Самый модный вечерний костюм летней Одессы. После первой рюмки Валерка брал гитару. Он долго настраивал ее, а потом делал надрывный, по-цыгански дрожащий аккорд, и все замолкали. Окуджава в то время еще не появился. О Галиче и Высоцком тем более никто ничего не слышал. Тех песен, которые, кажется, были всегда, еще лет десять в природе не существовало. Амнистия тоже еще не прошла, так что блатная классика была на подходе. А пока мы горланили итальянские арии из пластинок Карузо и двух Тито -- Руффа и Гобби.
Вечер на Соборке чернел и становился похожим на эти недавно привезенные победителями из Германии пластинки. Вся площадь словно вертелась на патефоне и пела под гитару звучные, хотя и непонятные итальянские слова. Отдельные куплеты мы переводили, догадавшись по музыке об их значении. "За ночь я узнал итальянский язык. Аморе, аморе, аморе". То, что любовь и море звучало почти одинаково, очень нравилось нам. Мы тянули это слово своими прорезавшимися лирическими сопрано, и боль в груди от причастности к трагедии, похожей на глаза Джины Лоллобриджиды, переносила наши загорелые тела на побережье Адриатического моря.
Когда я произносил запомнившиеся из пластинок итальянские созвучия, которые, как мне сдается, перебарщивают наличием гласных, было такое чувство, что древние греки, чья скульптура белела в треугольном скверике напротив нашей двери, меня понимают. Мне казалось, что они даже поворачивали печальные лица и про себя подпевали нам. Интересно, как очутились этот старик с двумя сыновьями, опутанные змеей, у нас в Одессе. И главное, попали именно на нашу площадь. Надо же.
Когда арестовали родителей Аркаши Попандопуло, Фима, друг моего дяди, сказал, что этих Лаокоонов тоже подметут. Что скульптура будет стоять в парке культуры и отдыха города Магадана. Но древних греков не взяли. Много знающий, хотя и русский, жилец из четвертого подъезда заметил, что этого никогда не произойдет, потому что детей не сажают, а сам Карл Маркс сказал, что греки -- это детство человечества. Впрочем, Сева не ручался, что это сказал Маркс. Может быть Фридрих Энгельс. Ну в общем, кто-то из них.
Да, греки в тот вечер явно оживились. Им, видимо, нравилось, что мы почти такие же голые, как и они. Я до сих пор верю, что когда мы пели итальянские песни, они под змеей танцевали сиртаки.
Мы так распелись, что не заметили, как исчез Ермолаев. Он всегда пропадал, когда первый хмель ударял ему в голову. Притом мы знали, где можно найти его. На крышах соседних домов. Высота тянула Женьку. Он первым из нашего переулка стал мастером спорта по акробатике.
Кстати, это произошло как раз на следующий день.
После соревнований у него брал интервью наш кореш, корреспондент одесской комсомольской газеты Юрка Михайлик.
-- Как тебе удалось скрутить двойное сальто? -- спросил Юра и записал свой вопрос.
-- Понимаешь, -- ответил Женя, -- перебрали вчера у Рудоса. У меня сегодня в глазах двоилось. Пошел на одно -- а скрутил два. Нет, пить все-таки перед соревнованиями нельзя! Женька никогда не умел вразумительно ответить. Да и спрашивать он как следует не умел. Это ведь он перед первенством Союза, когда надо было обойти всех врачей и сдать все анализы, спросил у остолбеневшей сестрички:
-- Будьте настолько любезны, пожалуйста, скажите, где здесь принимают говно на анализ кала? На соседних крышах Женьки не было. Это потом мы узнали, что он побывал в прошлых тысячелетиях. Осторожно балансируя руками, как на канате, натянутом на головокружительной высоте, он перешел булыжную мостовую. Затем с разбегу перемахнул железную ограду сквера и подошел к скульптуре. Перед мраморным постаментом росла трава. Женька тщательно вытер об нее ноги, чтобы не занести нашу одесскую пыль в их античное стерильное время. Затем он прыгнул, и ему казалось, что долго длился этот прыжок через тысячелетия. Босыми ногами Женька почувствовал прохладу мраморной плиты.
-- Кореш, подвинься, -- сказал он одному из сыновей Лаокоона.
Фигура отошла к краю пьедестала. На пятачке вечности хватило и для Женьки немного места. Над головой качнулась раскидистая шелковица. С этим деревом у меня сложились непростые отношения. В середине лета мы камнями, почему-то называемыми в Одессе муныками, сбивали его плоды, похожие на белых гусениц. Однажды шелковица вернула мне мой мунык. Он попал в лоб, и все лицо мое было залито кровью. Когда я вошел домой, мама схватилась за голову:
-- Шалопут! Кто тебя убил?! От шелковицы на Женьку пахнуло теплом нашего времени.
-- Папаша, чем я могу вам помочь? -- спросил Ермолай у начальника скульптурной группы. Древние греки молчали. Тогда Женька протиснул голову в виток каменной змеи. Как часто он потом делал то же самое! Я уверен, что там, на лесоповале, он тоже куда-то сунул голову. Но тут мы еще играли самих себя, а там эта игра уже сделалась судьбою.
Женька напряг мышцы, как культурист. На лице его появилось трагическое выражение. Трагичнее, чем у античных юношей. Он перебарщивал лицом. Его веселая одесская жизнь обретала классические формы.
-- Братцы, -- спрашивал Женька, -- вы, разом, не антисемиты? С сегодняшнего дня я маланец. Кажется, это у вас там было сказано: бойся маланцев даров приносящих. Так что предупреждаю сразу -- я еврей доброволец.
Женька замолчал, так как к скверу подошли двое, явно под мухой. Однако не будем делать из мухи слона.
-- А, Лаокоон, -- сказал первый.
-- Какая Алла? Тут баб нет. -- Второй был явно приезжий.
-- А -- отдельно и Лаокоон -- отдельно. Как вода и спирт. А -- это восклицание. Вроде -- у, или -- о. Лаокоон же -- это имя. Тебя зовут Федя, а его Лаокоон. Лаокоон Иванович. Что тут непонятного, обыкновенное заграничное имя.
-- Понял. А что, завтра их будет пятеро?
-- Почему пятеро? Считаем. Раз, два, три, четыре. Их четверо, соображают на четверых. По сто грамм.
-- Утром соображали на троих.
-- Подожди. Раз, два. Действительно добавили четвертого.
-- Халтурщики! Даже цвет подобрать не смогли. Этот четвертый гораздо темнее.
-- Может быть он негр. Эфиоп.
-- Не выражайся. Эфиоп твою мать.
Женька начал смеяться. Двое посмотрели на него ошалело.
-- Братцы! -- Заорал Женька. -- Я свой, русский. Вернее, еврей.
Пьяные бросились наутек. До такого состояния они еще не допивались.
Женька хохотал. И вдруг ему стало казаться, что змея на его горле шевелится. Он попробовал вылезти из витка, но не смог. А ведь так легко вошла внутрь холодного мрамора голова!
-- Спокойно, -- сказал он себе и, сделав усилие, освободил шею. -- У, Змей-Горыныч! -- замахнулся он в темноту, когда мы нашли его около Лаокоона. -- У-У -- это мое восклицание. А вообще-то я только что двух довел до белой горячки. Так давно это было. Женька Ермолаев. Еврей-доброволец. Карузо. "Аморе, аморе,аморе!" Бутылка вина на табуретке, застеленной газетой. И все-таки осталось у меня на всю жизнь ощущение, что рядом, по соседству с нами, жили древние греки. Они наблюдали за нами, завидуя живой жизни. И танцевали сиртаки под змеей, когда мы пели итальянские песни.