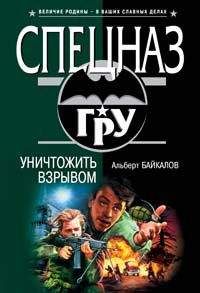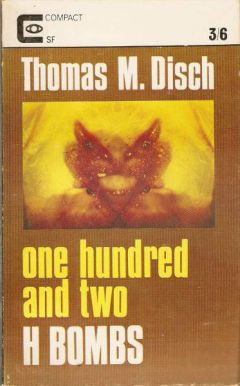Василий Брусянин - Певучая гитара
— По-моему — не так! — возразил Иван Тимофеич. — Вон у нас секретарь управления разве больше знает, чем наш Игнатий Николаич Савин? Все говорят, что меньше, а он им командует… Да… А почему?.. Дело всё в чине: секретарь-то надворный советник, а наш столоначальник — коллежский асессор… То же и там — священник выше дьякона и больше, значит — и больше смеет, архиерей выше священника… Так вот и везде: человек служит без чина, и нет ему ни хода, ни уважения, а как какой счастливчик схватил хоть первый чин — и всё-то, всё переменится…
— А как же те, что без чинов живут? Те совсем ничего не значат? — спросил я, вспомнив, что за мною ничего такого не значится.
Он задумался, посмотрел на меня и промолчал.
— Кто знает… может быть, что-нибудь и не так в наших разговорах, — разрешила рассуждения Евлампия Егоровна и принялась убирать со стола.
Мы помолчали.
— А вы на гитаре не играете? — спросил меня Иван Тимофеич.
— Нет.
— А вот я купил гитару и самоучитель… Только никак не могу выучиться по нотам, а так две-три песенки кое-как играю… А вон, говорят, Игнатий Николаич Савин хорошо играет… Страсть, говорят, как хорошо играет! Не удалось только мне его слышать-то…
— Вы уроки бы взяли, — посоветовал я.
— Ну, где там ещё уроки! Так уж, верно, пальцы не так устроены…
Он посмотрел на свои худые костлявые пальцы, сжал их в кулак, поднося ближе к глазам, потом снова выпрямил их и посмотрел на ладонь. После этого он принялся грызть ноготь…
— Когда-нибудь надо взять урок… Может быть, тут самую малость и выучиться-то надо: ладонь научиться прикладывать к грифу, как следует, или пальцами научиться прижимать струны…
Он смолк и задумался.
Иногда я, действительно, слышал игру Ивана Тимофеича на гитаре, особенно по вечерам, когда всё в нашей квартире замрёт, и долгие часы затишья кажутся унылыми и навевающими тоску. Иван Тимофеич играет всегда что-то нудное и скучное…
Мы встали, поблагодарили появившуюся хозяйку за обед и вышли в коридор.
— Может быть, вы хотите посмотреть мою гитару, — начал Иван Тимофеич, когда мы дошли до такой точки коридора, откуда надо было разойтись по своим комнатам: ему направо, мне налево.
Мне показалось, что не гитара — настоящая причина, почему он предложил мне зайти к нему. Из встречи за обедом я понял, как он рад познакомиться с ближайшим соседом; я подозревал даже, что и разговор о петербуржцах, не охотниках на знакомство, завёл он, поддавшись потребности высказать нечто наболевшее в его одинокой душе.
Я высказал желание посмотреть гитару, и мы вошли в его тёмную комнату. Усевшись на кровать с гитарой, он долго что-то вертел колки, ударяя то в одну, то в другую из струн, потом опять принимался за колки и, настроив инструмент, вручил его мне, говоря:
— Посмотрите, какая она хорошая… Доска нижняя немного со щёлкой, но, говорят, от этого гитара делается лучше: певучей она, говорят, делается…
Я взял гитару, повертел её в руках, посмотрел на трещину, благодаря которой гитара стала певучей, и провёл пальцем по струнам, пробудив в инструменте нестройные звуки. Иван Тимофеич улыбнулся.
— Вы, верно, и в правду не играете, и гитаре-то у вас в руках не лежится, — заметил он, говоря о своём любимом инструменте как о живом существе.
Он взял у меня гитару, положил её так, как следует класть во время игры, и взял на струнах несколько аккордов. В комнате дрогнули звуки, стройные, но робкие и печальные. Я посмотрел ему в лицо. Оно было серьёзно и, как мне показалось, немного побледнело, черты его как будто разом обострились и стали строже, а глаза засветились, точно с них сняли какую-то матовую оболочку. Он ещё взял несколько аккордов, таких же грустных и робких, и уставился глазами куда-то в угол…
Аккорды смолкли. Иван Тимофеич как-то стремительно закурил папиросу и снова, попыхивая дымом, склонился над инструментом. Хозяйка внесла нам по стакану кофе с бисквитами и безмолвно удалилась, словно боясь нарушить молчание.
Иван Тимофеич наигрывал ту самую нудную песню, которую я уже не раз слышал, сидя у себя.
— Что это за песня? — спросил я его, когда он перестал играть.
— А я и сам не знаю… Пётр Евграфыч её играл… У нас чиновник такой был, он ещё родственником мне дальним приходился… Вот он и играл, и гитару-то эту я у его жены купил… Месяцев пять тому назад умер он…
Музыкант сильно затянулся папиросой и снова заиграл что-то новое, повеселее…
— А это что? — спросил я.
— Эх вы, не знаете!.. Это романс: «Лови, лови часы любви»… [1]
Он положил гитару на кровать и заметил с сокрушением в голосе:
— Плохо у меня выходит… Надо что-нибудь с пальцами сделать…
Мы принялись за кофе. Не докончив стакана и до половины, он вдруг снялся с места и, схватив гитару, уселся на стул, ближе ко мне.
— А вот эта песня у меня выходит… — аккомпанируя на гитаре, он негромко запел:
Сердце ли рвётся, ноет ли грудь —
Пей пока пьётся, всё позабудь.[2]
Он долго пел, потом отложил гитару, прошёлся по комнате, ероша волосы и, остановившись около меня, проговорил:
— А знаете ли что… не выпить ли нам пива… А?.. Я приготовил для праздников…
Не дождавшись моего ответа, он повалился на кровать, запустил за неё руку и одну за другою извлёк четыре бутылки. Потом он сходил к хозяйке за стаканами, достал из стола штопор с насаженной на него пробкой, как-то спешно снял эту пробку и спрятал в карман брюк, точно сконфузясь чего-то.
Мы пили пиво. Мною вдруг овладело какое-то странное желание: делать по возможности всё, что ни предложит Иван Тимофеич. Я видел, с какой охотой занимал он меня своей неискусной игрой, я видел, с каким старанием он угощал меня пивом, словно озабоченный каждую минуту поисками — чем бы ещё занять меня, лишь бы только я не скучал и продлил свой визит. Подливая в стаканы пиво, Иван Тимофеич говорил:
— Покойничек Пётр Евграфыч любил выпить… Бывало, кто-нибудь скажет ему: «Пётр Евграфыч, пить-то вы пейте, да только меру знайте»… А он: «Что ж, согласен, только бы мера-то побольше была»… Чудак был!.. Славный человек… Вон, и гитара его лежит…
Иван Тимофеич покосился на гитару, лежавшую на кровати, и мотнул головой, и мне опять показалось, что он мотнул головою в сторону живого существа, что вместе с этой гитарой в его комнате поселилась и тень покойного Петра Евграфыча, и когда новый обладатель инструмента коснётся струн и заиграет ту нудную песенку, которую любил Пётр Евграфыч, — тень покойного встанет за спиною музыканта и прислушивается…
— А отчего умер Пётр Евграфыч? — спросил я.
— В чахотке умер… Пил сильно и умер… Жена осталась, шесть человек детей, и всё такая мелочь… Бывало, и я говорю ему: «Брось, Пётр, брось!..» — «Не могу, — говорит, — вино, веселье и любовь… Веселья у меня нет, любви тоже при нашей бедности не полагается, хоть и жена, и дети живы, и остаётся только — пить»… Так, бывало, скажет и запьёт…
Иван Тимофеич отпил полстакана пива и добавил:
— Вот мне так хорошо! Нет никого и ничего… Умру — так вон гитара останется… Евлампия Егоровна продаст её татарину и Богу свечку поставит… И будет та свечка гореть и… догорит…
Голос его дрогнул, он встал и прошёлся по комнате до окна, от окна до двери и обратно. Пощипывая бородку, он уселся на подоконник, и на бледном четырёхугольнике окна образовался силуэт его длинной и тощей фигуры.
Наступали сумерки, и в комнате становилось темно. Иван Тимофеич поднялся с подоконника и негромко сказал:
— Скучно в темноте… надо лампу зажечь…
Когда была зажжена лампа, я осмотрелся. На столе, залитом пивом, стояли четыре пустые бутылки и стаканы с недопитым пивом. При свете лампы комната Ивана Тимофеича показалась мне ещё более неуютной: от тёмных стен веяло чем-то угрюмым, убогая обстановка навевала тоску, по комнате носились густые клубы табачного дыма, и сам хозяин, немного захмелевший, с бледным лицом и с печалью в усталых глазах, казался каким-то заброшенным и жалким.
Я встал, поблагодарил хозяина за угощение и стал прощаться.
— Сидите, что вы!.. Право!.. Выпили бы ещё пива. Сегодня праздник, завтра праздник и послезавтра, — просил он, потом пожал мою руку и, когда я вышел, распрощавшись, он плотно притворил в свою комнату дверь и запер её на крючок.
Ночью я вернулся поздно. Как всегда, хозяйка отворила мне дверь, и когда я был уже около своей комнаты, она удержала меня за рукав, указала рукою на дверь в комнату Ивана Тимофеича и шёпотом сообщила:
— Выпил и спит… Весь вечер сегодня пел и играл, про вас всё спрашивал…
Евлампия Егоровна ещё больше понизила тон и добавила:
— Он ведь выпивает! Да только не как все люди… Купит себе водки, запрётся на крючок, напьётся да и ляжет в постель, а потом ночью проснётся и опять выпьет, и опять спит…