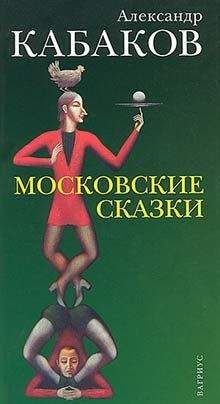Николай Каронин-Петропавловский - Пустяки
Когда у него вышли всѣ деньги, онъ сталъ наниматься на работы, которой въ это время довольно было вездѣ. Вознагражденіемъ онъ довольствовался ничтожнымъ, беря гривенникъ или двугривенный, вообще столько, сколько ему надо было на хлѣбъ и на кашу. Это равнодушіе удивляло и радовало, такъ что всѣ брали его съ удовольствіемъ. Не нравилось только то, что онъ былъ плохой работникъ. Ѣдетъ онъ, напримѣръ, по пашнѣ съ бороной, а самъ все о чемъ-то думаетъ и такъ задумается, что ѣздитъ часъ, другой, третій. «Ты что же дѣлаешь?» — спрашиваетъ у него хозяинъ, и только тогда Егоръ Ѳедорычъ приходитъ въ себя.
Ни съ кѣмъ онъ не объяснялся о своихъ думахъ, да и у него никто не спрашивалъ, какъ онъ думаетъ жить по возвращеніи. Развѣ отъ нечего говорить спроситъ иной хозяинъ объ его дѣлахъ. Такъ, однажды хозяинъ принялся его пытать разными вопросами, Дѣло было на пашнѣ во время обѣда.
— Какъ же ты, Егоръ Ѳедорычъ, насчетъ хозяйства, думаешь приноравливать или такъ? — спросилъ хозяинъ.
— Такъ, — отвѣчалъ Горѣловъ.
— Мочи нѣтъ, т. — е, напримѣръ, капиталу?
— Не желаю!
— А надо бы…
— Не надо, — возразилъ Горѣловъ.
— Хозяйство? Чудакъ ты, я вижу, этакое неосторожное слово сказалъ! Да какъ же безъ хозяйства? Хозяйство всякъ долженъ приспособить.
— Для чего?
— Это хозяйство-то?
Очевидно, это слово ставило хозяина въ тупикъ.
— Да глухъ, что-ли ты?… Ну, шутникъ ты, погляжу я. Потому хозяйство требуется, быть безъ него нѣтъ силы-возможности. Даже какой-нибудь мошенникъ или собачій сынъ и тотъ… Да какъ же это возможно, чтобы хозяйства не надо?
— Разное бываетъ хозяйство. Главное, чтобы въ умѣ былъ порядокъ. Который человѣкъ полоумный и никакого хозяйства въ душѣ у него не водится, тому все одно… Есть у тебя эдакое хозяйство? — рѣзко спросилъ Горѣловъ.
Хозяинъ положилъ ложку на траву, положилъ туда же недоѣденный огрызокъ хлѣба и чесалъ спину. Изумленіе его было столь велико, какъ еслибы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, ростутъ вмѣстѣ съ онучами у него на головѣ. Подумавъ немного, онъ снова взялъ ложку и только сказалъ въ глубокой задумчивости: «Вонъ оно какъ!» Разумѣется, хозяинъ послѣ такого разговора пересталъ разспрашивать Горѣлова, чувствуя къ послѣднему неопредѣленный страхъ.
Вообще послѣ такихъ разговоровъ многіе жители деревни стали побаиваться Горѣлова. Оказалось, что говорить съ нимъ нѣтъ никакой возможности: нападаетъ тоска. Развѣ иной по незнанію впутается въ разговоръ, да и то спѣшитъ замолчать. Такъ было черезъ нѣсколько дней у другого мужика, имѣвшаго неосторожность пристать къ Горѣлову за совѣтомъ. Горѣловъ нанялся къ нему за четырнадцать копѣекъ помогать пахать. Между тѣмъ, хозяинъ недавно перенесъ глубокое несчастіе: у него развалилась изба. Чтобы поправить поскорѣе дѣла, онъ отобралъ годныя къ употребленію бревна отъ старой избы, прибавилъ къ нимъ круглыхъ чурбашковъ отъ курятника, присоединилъ еще нѣсколько слегъ отъ коровника и сочинилъ изъ этого нѣчто новое, якобы избу. Но убѣжище это не понравилось ему и мучило его однимъ своимъ видомъ, къ сожалѣнію, довольно страннымъ. Съ этимъ дѣломъ онъ и обратился къ Горѣлову, считая послѣдняго опытнымъ.
— Ты какъ думаешь о моей избѣ… выдержитъ? — спросилъ онъ.
— Не знаю, — отвѣтилъ Горѣловъ.
— Я полагаю, не выдержитъ! — съ внезапнымъ отчаяніемъ выговорилъ хозяинъ. — Все она смотритъ вотъ эдакъ… Задомъ сѣла и передъ подняла кверху.
— Что-жь, опрокинется, — замѣтилъ Горѣловъ.
— Во-во… это самое я и думаю! Не выдержитъ! Что-жь мнѣ съ ней, подлой, дѣлать?
— А я почемъ знаю?
— Нѣтъ, такъ, къ слову, что бы ты присовѣтовалъ, а?
— Да говорю тебѣ — не знаю!
— Однако, какъ бы ты думалъ? Чѣмъ бы эдакъ утвердить ее? Чего ей, сволочи, недостаетъ?
Горѣловъ, наконецъ, потерялъ терпѣніе.
— Лѣсу ей недостаетъ, а тебѣ ума и Бога, — сказалъ онъ со злобой.
Молчаніе и оцѣпенѣніе. Хозяинъ буквально разинулъ ротъ, даже поблѣднѣлъ, потому что имъ овладѣлъ вдругъ какой-то суевѣрный страхъ.
Темныя слова, сказанныя Горѣловымъ, были, очевидно, ясны для него. Подъ ними онъ разумѣлъ цѣлый рядъ явленій, хорошо знакомыхъ ему, кровью пережитыхъ и потому особенно ненавистныхъ, какъ и все его прошлое, внушавшее ему одно отвращеніе. Между тѣмъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ былъ не тотъ, какимъ сталъ теперь. Большинство жителей дервини скажетъ, что тогда онъ жилъ ладно, — ладно, то-есть вмѣстѣ со всѣми прочими. Всѣ метались, промышляя ѣду, и онъ метался. Никто не помнитъ истинной жизни, и онъ забылъ. Забылъ вплоть до того времени, когда ему случайно пришло на мысль волей-неволей оглядѣть себя. Въ это время онъ сдѣлалъ открытія, самъ не вѣря тому, какъ онъ могъ ихъ пропустить мимо глазъ и ушей.
Было-ли въ его жизни что-нибудь особенное? Нѣтъ, ровно ничего такого, что было бы необыкновенно въ деревенской жизни. Пожалуй, можно приписать случившійся въ его настроеніи переворотъ трешницѣ, но исторія ея также обыкновенна. Она состояла въ слѣдующемъ. Былъ у Егора Ѳедорыча шестилѣтній сынъ Мишка. Неизвѣстно, любилъ-ли онъ его, какъ единственную свою опору въ будущемъ, только особеннаго вниманія Мишка не обращалъ на себя. Мальчонко росъ, ѣлъ, бѣгалъ по лужамъ, ловилъ воробьевъ, ѣздилъ верхомъ на телятахъ, ревѣлъ, когда его колотили, или шалилъ, когда его забывали на цѣлую недѣлю, — все какъ слѣдуетъ. Но вотъ однажды пришлось Егору Ѳедорычу прихватить у сосѣда деньжонокъ; тотъ далъ и въ назначенный срокъ аккуратно пришелъ за долгомъ. Егоръ Ѳедорычъ также аккуратно вытащилъ изъ-за пазухи кожаный кошель, а изъ кошеля осторожно вынулъ трешницу и нѣжно разглаживалъ ее на ладони. И вдругъ дьяволъ подтолкнулъ Мишку выпросить у отца бумажку, чтобы посмотрѣть на нее хоть однимъ глазкомъ. Не успѣлъ отецъ опомниться, какъ сорванецъ подбѣжалъ къ печкѣ, которая топилась, и выронилъ бумажку, заявивъ объ этомъ несчастіи страшнымъ ревомъ. Моментально всѣ находящіеся въ избѣ бросились къ печкѣ и нѣсколько паръ глазъ вперились въ огонь. Бумажка вспыхнула и пропала. Егоръ Ѳедорычъ бросился отъ печки, догналъ улепетывающаго Мишку и, внѣ себя отъ ужаса и отчаянія, принялся тузить его. И вѣдь, правильно говоря, не долго тузилъ. Но Мишка съ этой поры сталъ какой-то дуракъ, чистый юродивый. Изъ ушей у него текло, изо рта текло, изъ носу текло, глаза смотрѣли тупо, слышать онъ пересталъ. Потомъ онъ померъ.
Такъ вотъ. Пожалуй, можно приписать случившійся въ душѣ Егора Ѳедорыча переворотъ трешницѣ, но, вѣроятно, были общія, болѣе широкія условія всей деревенской жизни, благопріятствовавшія, вмѣстѣ съ трешницей, превращенію Егора Ѳедорыча изъ хозяина въ бездомнаго шатуна, не знавшаго нигдѣ покою. Самыя обыденныя и обыкновенныя вещи ему опротивѣли съ этого времени. Первымъ предметомъ его отвращенія сдѣлался ближайшій къ нему человѣкъ — хозяйка его Аннушка. Не то, чтобы она была, дѣйствительно, противная баба, — совсѣмъ напротивъ. Аннушка работала съ нечеловѣческими усиліями, по-лошадиному, а потребности имѣла ничтожныя. Видъ ея былъ всегда растерянный и пугливый, но это происходило отъ-того, что она не давала себѣ отдыха. Даже въ свободныя минуты она готова была куда-то бѣжать, что-то схватить, взвалить на спину и тащить, — такое ужь лицо у ней было безпокойное. Сидитъ, напримѣръ, въ воскресенье и ѣстъ ватрушку, но вдругъ вспомнитъ какую-нибудь картошку, которую надо будто бы перенести вотъ въ этотъ уголъ, — вспомнитъ и ринется, а потомъ ужь цѣлый день все что-то перетаскиваетъ, перекатываетъ и перевозитъ, тяжело дыша, а къ вечеру валится, какъ убитая, и спитъ, какъ бездыханный трупъ. Такая неустанная дѣятельность уживалась рядомъ съ неряшливымъ одѣяніемъ, съ замореннымъ лицомъ и вѣчною бѣдностью всюду, гдѣ она только проявляла эту дѣятельность.
Наблюдая за ней, Егоръ Ѳедорычъ питалъ все большую и большую ненависть къ ней. За то, что она работала до упаду, за то, что у ней не было ни минуты покою, — однимъ словомъ, за все, что въ ней было для всѣхъ постороннихъ хорошаго, онъ чувствовалъ отвращеніе къ ней, какъ и къ картошкѣ, узламъ, отрубямъ и прочей дряни, ради которой она убивалась. Иногда кипѣвшая внутри его злоба вырывалась наружу. «Да ты хоть бы разъ подумала… Спрашиваю я, для какой надобности ты всполошилась и вообще по какимъ причинамъ ты живешь? Ну, хоть бы одно путное слово обронила… туды-сюды мечешься, какъ оглашенная, тамъ накричишь, въ другомъ мѣстѣ наругаешься… хлопъ — и спишь»… Говоря это, Егоръ Ѳедорычъ чувствовалъ всю безнадежность этихъ словъ и своей жизни. Наконецъ, онъ не выдержалъ и отправился на заработки, да тамъ и застрялъ на нѣсколько лѣтъ. Авнушка также ушла на заработки, долго мыкалась по свѣту Божьему. Потомъ померла.
Получивъ полнѣйшее отвращеніе ко всѣмъ обычнымъ дѣламъ и порядкамъ, Егоръ Ѳедорычъ нигдѣ и ни на чемъ ужь не могъ остановиться. Поработавъ въ одномъ мѣстѣ, онъ шелъ въ другое, гонимый какимъ-то безпокойнымъ чувствомъ. Онъ колесилъ по всей Россіи, побывалъ въ самыхъ темныхъ ея закоулкахъ, но нигдѣ по-долгу не оставался. Недавно онъ заскучалъ по родной сторонѣ и поплелся туда.