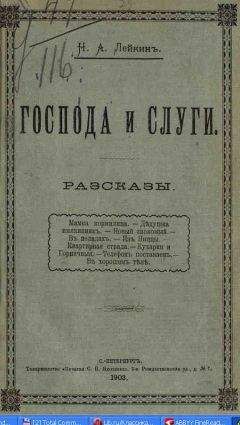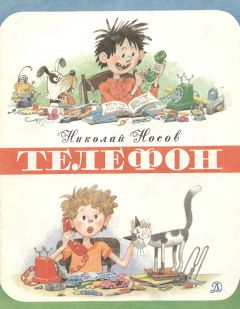Николай Лейкин - Угловые
— Стой! — схватилъ ее за руку бѣлокурый дѣтина. — Дрова твои я не выпущу. Я ихъ нашему портерщику обѣщалъ.
— Нѣтъ. Михайло Никитичъ, нѣтъ, — испуганно заговорила женщина съ подбитымъ глазомъ. — Ихъ надо Кузьмѣ Тимофѣичу. Вѣдь это за харчи пойдетъ. Суди самъ, вѣдь ты требуешь и селедки, надо тебя и кофеемъ напоить.
— Вздоръ. Васюткиными деньгами расплатишься. Приструнь Васютку, чтобы счастье старательнѣе продавалъ…
— Да вѣдь и Васюткины деньги ты отбираешь.
— Выходи на улицу, выходи. Сейчасъ за билетомъ на дрова ты пойдешь, а чашку съ ѣдой мнѣ передашь. Я дома буду.
И бѣлокурый дѣтина вытолкалъ Марью за дверь.
Они очутились на, улицѣ..
— Отдай, Михайлушка, дрова-то лавочнику, будь умный, — упрашивала Марья своего сожителя Михайлу. — Отдай. Тогда онъ опять начнетъ въ долгъ вѣрить, и ты сегодня съ селедкой будешь.
— Да развѣ ужъ половину изъ того, что ты получишь. А другую половину портерщику. Я ему обѣщалъ. Онъ человѣкъ тоже нужный.
— Ну вотъ, спасибо, ну, вотъ хорошо. Люблю я, Мишенььа, когда ты сговорчивый… — говорила Марья.
— Сговорчивый. Учить вашу сестру надо. Ну, вотъ тебѣ повѣстка и иди за дровами.
— Позволь. Какъ-же я пойду неодѣвшись-то? Вѣдь холодно въ одномъ платкѣ. Надо будетъ зайти домой и кацавейку надѣть.
— Ну, такъ живо, живо. Не топчись! — говорилъ Михайло, провожая Марью. — По скольку дровъ-то выдаютъ?
— По полусажени. Меня вѣдь, Мишенька, за квартирную хозяйку сочли, а знали-бы, что я въ углу живу у хозяйки, такъ и совсѣмъ не выдали-бы дровъ. И когда я прошеніе подавала, то написала, что я вдова съ тремя малолѣтними дѣтьми. Ну, что-жъ, вѣдь лѣтось я была хозяйка и держала квартиру, — разсказывала Марья, свернувъ въ ворота и идя по двору.
— Ужасно много ты любишь разговаривать! — пробормоталъ идущій за ней слѣдомъ Михайло. — А ты дѣло дѣлай, старайся больше въ разныхъ мѣстахъ добыть, а разговаривай поменьше. — Теперь передъ Рождествомъ вездѣ раздавать будутъ и разное раздавать — вотъ ты и подавай прошенія.
— Да я ужъ и такъ подала въ приходское общество. Въ прошломъ году я два рубля получила.
— Что общество? Ты въ разныя мѣста подавай. Два рубля. Велики-ли это деньги два рубля!
— Да вѣдь изъ-за того два рубля выдали, что у меня одинъ парнишка на рукахъ, а было-бы трое, четверо дѣтей, такъ больше-бы выдали.
— Надо у Охлябиной Матрены спросить. Она подавать-то горазда разныя прошенія, — говорилъ Михайло, поднимаясь вмѣстѣ съ Марьей по вонючей лѣстницѣ въ третій этажъ. — Теперь есть такія общества, что и сапоги ребятишкамъ выдаютъ, и пальты. Вотъ на Васютку ты и проси. А я тебѣ прошеніе напишу.
— Такъ вѣдь это Васюткѣ. А тебѣ-то какая польза?
— Дурища. Да вѣдь сапоги-то продать можно.
Она вошла въ кухню квартиры. Со свѣжаго воздуха на нихъ пахнуло всевозможными запахами. Пахло пригорѣлымъ, пролитымъ на плиту, жиромъ, пахло жаренымъ кофе, пахло онучами, грязными валенками, повѣшенными надъ плитой для просушки, пахло ворванью отъ новыхъ сапогъ, пахло махоркой. На плитѣ дымились двѣ сковороды. Хозяйка квартирная вдова, Анна Кружалкина, жарили въ салѣ картофель на одной сковородѣ, а на другой — кофе. Увидавъ Марью, она сцѣпилась съ ней:
— А ты хороша жилица, Марья Потаповна! — вскричала она. — Не жилица ты, а каторжница, мошенница и даже еще хуже! Чего ты на дрова-то прошеніе подавала? Зачѣмъ? Съ какой стати? Что-бы мнѣ ногу подставить, что-ли? Вѣдь ты на мой номеръ квартиры подавала прошеніе, подлая? Тебѣ повѣстка пришла, тебѣ дали дрова, а мнѣ теперь черезъ это самое не дадутъ.
— Полно. Отчего такъ? Всѣ получатъ, — виновато сказала Марья.
— Врешь. Всего только на одно прошеніе въ каждую квартиру дрова выдаютъ. Или ты хозяйка, или я… Выдали тебѣ,- не выдадутъ мнѣ. А я тоже подавала и теперь буду при пиковомъ интересѣ. Углятницы только хозяйкамъ дорогу портятъ! Чѣмъ-бы уважать да почитать хозяекъ, онѣ имъ ногу подставляютъ. Ладно! Выѣзжай, коли такъ, изъ угла. Да чтобы и хахаля твоего здѣсь духу не было. Слышишь?
— Ну, что-жъ, съѣдемъ. Не казисты твои тутъ департаменты, — отвѣчалъ хозяйкѣ Михайло.
— Да вѣдь я у твоей халды что-нибудь изъ вещей за ейный долгъ удержу.
— Ну, это еще мы посмотримъ! Одѣвайся, Марья, и бѣги за дровами. Ступай. Нечего ей отвѣчать. Я отъ ней и одинъ отругаюсь, — сказалъ Марьѣ Михайло, видя, что та тоже хотѣла что-то возразить.
Марья накинула на себя кацавейку и выбѣжала изъ квартиры.
III
Перебранка о дровахъ продолжалась. Квартирная хозяйка, вдова крестьянина Кружалкина, «настоящая вдова», какъ она себя называла въ отличіе отъ тѣхъ вдовъ, которыя у ней жили въ углахъ подъ кулакомъ друга милаго, ругала Михайлу и пьяницей, и лѣнтяемъ, и лежебокомъ. Михайло въ свою очередь выливалъ потокъ упрековъ и брани. На сторону квартирной хозяйки стали и ея жилицы и тоже порицали Марью за обманное полученіе дровъ, и въ особенности отличалась Матрена Охлябина, славившаяся разными срывками съ благотворительныхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ, мать четверыхъ дѣтей, двоихъ изъ коихъ она успѣла уже пристроить въ пріюты, а на двоихъ то и дѣло получающая разныя милости въ видѣ сапогъ, одежды, калошъ, валенокъ, и т. п.
— Ну, а ты-то чего, Анна Сергѣвна, пѣтушишься! Ты-то чего? — крикнулъ на Охлябину Михаило. — Сама-то ты правильная, что-ли? За правильное житье милости-то съ благодѣтелей получаешь, что-ли? Ужъ кто-бы говорилъ, да не ты. Вся ты на обманѣ.
— Я на обманѣ? Я? А ты докажи! Что я обманно получаю? — взвизгнула Охляблина и подбоченилась.
— Да нечего и доказывать. Кто себя въ прошеніяхъ вдовой называетъ? Ты. А какая такая ты вдова? Кто вѣнчалъ? Когда? Вѣнчалъ, можетъ статься, лѣшій вокругъ ели, а черти пѣли, такъ это, братъ, не считается.
— Ахъ, это-то? Такъ это нешто я? Это писарь. А сама я неграмотная.
— Врешь! Сама ты неграмотная, а вѣдь языкъ-то твой. Я слышалъ, какъ ты ему сказывала: вдова крестьянка такая-то. И хоть-бы взять дѣтей… — доказывалъ Михайло. — Ты теперь вездѣ пишешь въ прошеніяхъ: «обремененная четырьмя младенцами»… Гдѣ у тебя четыре? Гдѣ? Вѣдь ужъ двое пристроены… А ты все по старому счету, да по старому…
— Врешь! У меня два племянника отъ сестры есть. Я имъ помогаю. Одинъ въ деревнѣ, а другой въ ученьи у сапожника. Онъ въ ученьи безъ одежи. Я на него бѣльишко стираю. Нынче рубашенку ситцевую дала, штанишки изъ спорка стараго перешила. Отъ себя урываю да ему даю. Нѣтъ, ужъ ежели по закону-то считать, то мнѣ нужно въ прошеніяхъ обозначеніе дѣлать, что шестерыхъ дѣтей, а вовсе не четверыхъ. Племянники мои крестники мнѣ. Да… И тому-то, что въ деревнѣ у родныхъ, проживаетъ, я нѣтъ, нѣтъ да и пошлю какую ни на есть тряпку на рубашенку.
— Ну, брось… Не стоить разговаривать, — остановилъ ее Михаила. — Умная ты женщина для себя, такъ нечего тебѣ и другихъ попрекать за то, что онѣ для себя стараются. Дрова городскія и выдаются о, чтобъ бѣдныхъ людей обогрѣвать.
Но тутъ изъ кухни выставила голову Кружалкина и воскликнула:
— А твоя подстега Машка кого будетъ обогрѣвать? Кого? Ну-ка, скажи! Мелочного лавочника? Такъ больно густо это для него, толстопузаго.
— Брысь! — крикнулъ на хозяйку Михайла и показалъ кулакъ,
Къ полудню привезли дрова. Съ дровами явилась и Марья. Она вошла ропщущая.
— Ну, ужъ и дрова! Только слава, что дрова! Однѣ палки да и тѣ сырыя, — говорила она. — Выдаютъ по полусажени, а нешто это полсажени? Доброй восьмушки нѣтъ, а то и больше. Ужъ я ругалась-ругалась на дровяномъ дворѣ, чтобы прибавили — ни съ мѣста. Дровяникъ мошенникъ.
— Ну, даровому коню въ зубы не смотрятъ, — снисходительно сказалъ ей Михаила. — Сдала половину лавочнику?
— Сдала. За восемь гривенъ взялъ. Вотъ тебѣ и селедка… Вотъ тебѣ и гривенникъ на пузырекъ. Гривенникъ деньгами у него, у подлеца, вымаклачила тебѣ на пузырекъ. Можешь опохмелиться.
Марья подала Мюайлѣ селедку, завернутую въ сѣрую бумагу, и два мѣдныхъ пятака.
— Вотъ за это спасибо. Ай да Машка! Молодецъ! — похвалилъ ее Михайло. — Слышь… — шепнулъ онъ Марьѣ. — Я думаю, половину-то дровъ не отдать-ли Кружалкиной за полтину серебра въ уплату за уголъ? Все-таки хозяйка. Ну, ее къ лѣшему!
— Ну, конечно, отдадимъ, — согласилась Марья. — Что тебѣ портерщикъ? А тутъ только свары, да дрязги.
Марья пошла пошептаться съ Кружалкиной, и та согласилась, но все-таки выторговала себѣ гривенникъ, принявъ четверть сажени дровъ за сорокъ копѣекъ.
Михайло, между тѣмъ, сбѣгалъ за водкой въ казенку, и они принялись обѣдать.
— Пиши сегодня прошеніе о сапогахъ-то для Васютки, — сказалъ Марьѣ Михайло. — Я вотъ высплюсь послѣ обѣда, такъ напишу тебѣ.
— Да хорошо, хорошо, — говорила Марья, радуясь, что Михайло въ благодушномъ состояніи и не ругаетъ ее. — А ужъ писать на сапоги для мальчика, такъ написать и о себѣ прошеніе въ Думу. Тамъ передъ праздниками, кромѣ дровъ, даютъ и на уголъ бѣднымъ людямъ, уплачиваютъ и въ мелочную лавочку, кто задолжавши. Надо только у Охлябихи спросить, какъ это дѣлается.