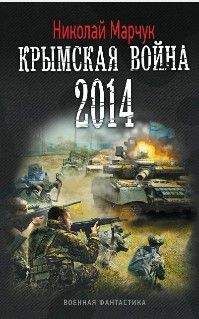Борис Можаев - Маша
Маша познакомилась с Булкиным три месяца назад, когда одна-одинешенька приехала на перевалочную станцию Силки. В дороге Маше прибило руку вагонной дверью. Пальцы были сильно повреждены, пришлось сойти с поезда и пролежать несколько дней в больнице. Так и отстала она от своей комсомольской группы.
В тот вечер как раз на станции отгружал цемент на свой участок Булкин. Он встретил Машу любезно и, глядя на ее забинтованную и подвязанную руку, все шутил:
- Бедный подранок, отстал от своей утиной стаи.
Он взял Машины вещи: чемоданчик, рюкзачок и даже сетки-авоськи. Маше ничего не оставил.
- Вам нельзя, крылышко зашибете. - А сам все по-петушиному забегал вперед. - Вслед ступайте, утеночек. Меньше испачкаетесь.
Маша смеялась вместе с Булкиным. Ей понравилась эта суетливая обходительность прораба и весь его простецкий, какой-то домашний вид. "Хороший он, - думала она со свойственной ей сердечностью. - И смешной такой в своей древней шляпе".
Булкин усадил Машу вместе с собой в кабинку могучего "МАЗа". Дорога была невообразимо грязная, тряская. Но Булкин бережно поддерживал ее больную руку и предупреждал, где будет трясти и как нужно держаться за скобу здоровой рукой. Маше было с ним легко, просто, как с давнишним знакомым, и она всю дорогу рассказывала ему про свою Рязанщину, про то, как она решилась ехать на новостройку.
- Я люблю больше всего в жизни детей. Со взрослыми я сама чувствую себя школьницей, - призналась она прорабу. - Учительницей мечтала стать. А тут вдруг призыв комсомола - на стройки ехать. И знаете, услышала я это по радио - и мысль у меня вроде вспыхнула: "А что, если и мне поехать?" Я сначала даже испугалась такой внезапной мысли, прогнать ее старалась. Да куда там! Разве прогонишь собственные мысли? Встретила я, помню, свою подружку, одноклассницу, да и призналась ей. Вот, говорю, и хочется поехать на Дальний Восток, и боязно. Решительная она. Обняла она меня. "Маша, говорит, милая, и со мной такое же творится! Поедем, поедем... И чтоб на самый Дальний Восток!" Посмеялись мы, и весело нам стало и так радостно - куда весь страх пропал. Подали мы заявление. А с нами за компанию еще четверо. В училище наше заявление как снег на голову. Ведь мы же выпускники были и назначение получили. Вызывают нас на педсовет. "Вы все продумали?" - спрашивают. "Все, все", - отвечаем. "Так вы же учителя, а не строители!" - "А мы, говорим, сами на пустом месте и химический комбинат построим и школу. А потом детей учить станем в ней". И такой счастливой нам показалась мысль - самим построить школу, самим и учить в ней, - что мы непременно мечтали приехать в глухое место, в тайгу...
Увлеченная воспоминаниями, Маша недовольно встречает посетителей. Ввалились целой толпой штукатуры - шумные, веселые.
- Баста! Один дом закончили. Ну-ка, что мы там заработали?
Маша взяла у бригадира наряды, раскрыла "Единицы норм и расценок" и начала подсчитывать.
- Братцы! - восклицали штукатуры. - В этой цифири шею сломать можно.
- Это же так просто, - смущенно поясняла Маша. - Сначала нужно определить норму времени, потом выработки, а потом уж и расценки.
- Хо-хо! Ничего себе простота, - смеялись ребята.
Заработок у них получился высокий; довольные, они, уходя, говорили:
- Хорошо считаешь. С получки конфет купим.
Потом пришел бригадир разнорабочих, бровастый сумрачный крепыш, которого звали все на участке Серганом.
- Где прораб? - спросил он строго.
- Где-то на участке. А что?
- Ну вот, он где-то по участку бродит, а у меня рабочие отказываются землю копать.
- Почему?
- Определить надо категорию грунта.
- Ну что ж, пойдемте. - Маша встала из-за стола.
- А ты умеешь? - недоверчиво спросил Серган.
- Посмотрим.
Маша пришла на площадку, где копали ямы под столбчатый фундамент будущего дома. Она осмотрела несколько ям - грунт был глинистый, плотный, вперемешку с крупными булыжниками.
- Ну что ж, четвертая категория, - авторитетно сказала Маша. - Давайте проставлю в наряде.
Рабочие, удовлетворенные, загомонили.
- Ишь ты, - с довольной усмешкой заметил Серган. - Где ж ты обучалась этой премудрости?
"Где я обучалась? - думала Маша, возвращаясь в контору. - Вот здесь... Мало ли чему он обучил меня".
В конторе Маша снова вспоминает, как они ехали в тот вечер с Булкиным по лесной дороге. И как она все рассказывала ему про мать и про сестренку Нинку. И снова в памяти перенеслась она в ту кабину грузовика, и слышится ей свой неторопливый ровный говор:
- Все хорошо, думала я, но как мне маму известить? А вдруг она не поймет меня? Помню, застала ее в огороде. Подошла к маме, она склонилась над грядкой. Кофточка на ней потемнела от пота, прилипла к спине. Как подумала я, что уеду от нее далеко-далеко, и в горле запершило. И такой она мне дорогой была в ту минуту, что и сказать не могу. "Мама, - говорю я тихонько, - а ведь я на Дальний Восток еду". Она вроде бы вздрогнула. Потом молча поднялась, а траву из фартука-то прямо на рассаду выронила. Посмотрела на меня так строго да только и сказала: "Ты взрослая уже, дочка". А дома-то все-таки не выдержала. Сели мы ужинать. Она не ест. Смотрит в миску, а глаза слезами наливаются. Обнялись мы тут и поплакали вместе. "На дело, говорю, нужное еду, мама". - "Я же понимаю. Поезжай, дочка, поезжай". А сама так и заливается слезами. "Ты уж на людях-то не плачь, а то неудобно..."
На Машу нахлынули эти воспоминания, такие яркие, волнующие, что она, сидя за столом в пустой конторе, не замечает, как давно уже закончился рабочий день и сумерки потихоньку вползают в подслеповатое окошко. Она сидит неподвижно, и видится ей огромный черный "МАЗ" - он идет по лесной ухабистой дороге, гудит и сотрясается. А по сторонам стоят сплошные высокие стены леса. И Маше кажется теперь, что ехали они не лесом, а по дну огромной траншеи. Потом видит она кабинку и себя с Булкиным рядом, как на экране в кино... А он все слушает, слушает. Какой терпеливый!
А как смешно было, когда он поскользнулся и поехал по глинистому откосу, вот здесь, возле конторы, и сел прямо в лужу вместе с чемоданом. Было совсем поздно. Булкин привел ее сюда в контору и сказал: "Будете спать в мой конуре. Коменданта теперь с семью кобелями не сыщешь". - "А вы где же?" - спросила Маша. "А я в палатке".
Конурой Булкина оказалась дощатая пристройка к конторе. В ней стояли койка, тумбочка и грубо сколоченная этажерка, заставленная книгами и справочниками. "Вот мое хозяйство. Не богато. Да мне одному и не надо большего". Булкин достал из чемодана чистые простыни, полотенце, положил все это на койку, пожелал Маше спокойной ночи и ушел. И Маше долго еще сквозь сон чудилось, что она подпрыгивает в кабине грузовика, а Булкин бережно поддерживает ее.
"А где же он теперь? - думает Маша. - И рабочий день уже давно кончился, а наряды не подписаны".
Она замечает наконец, что сгущаются сумерки и давно уже пора домой в палатку. Маша встала из-за стола, заглянула в пристройку: может, Булкин там? Пусто. "Обидела я его, наверно, своими неуместными слезами, - думает Маша. - Он и так устал от этих нарядов, а тут еще со мной возись. Найти бы его, извиниться... Что же делать? Ведь и в конторе кому-то нужно работать. Тем более что привык он ко мне".
Маша вспоминает последнюю фразу Булкина и его вдруг охрипший голос, словно ему в это время горло перехватили пальцами. "Странный он какой, думает Маша. - Я ведь тоже к нему привыкла. Но зачем же так волноваться?"
"А может быть, он влюбился в меня? - Эта мысль вспыхивает внезапно и ярко, как лампочка в сумеречной конторе. Но Маша пугливо гонит ее прочь. Чего только не взбредет в голову. Он человек серьезный. А я что ж, подросток еще. Да и за что мы будем любить друг друга?"
Маша старается думать о Булкине, представить себе, как он жил, где работал. Но оказывается, кроме того, что ему уже перевалило за тридцать и что жена отказалась ехать сюда с ним и живет где-то в большом городе, Маша больше ничего про него не знает.
Наконец она закрывает контору и в наступивших сумерках идет домой. Палаточный лагерь, где живет Маша, лежит за изрытой увалистой сопкой. На этой высоте строится новый городской квартал; повсюду здесь навалены штабеля кирпича, бетонных блоков, плит. А из развороченной земли там и тут высятся зубчатыми уступами стены будущих домов. Бывшие владельцы этой высоты - могучие ясени, дубы, осокори, поверженные тягачами, - с великим трудом расставались с землей-матушкой: выкорчеванные деревья высоко подняли свои черные корни, словно хотели доказать, что они еще живы и неистребимы. В темноте эти корни казались Маше притаившимися косматыми зверями, поэтому она невольно обходила сопку.
По извилистой каменистой тропинке она быстро поднималась на высокий прибрежный утес. И вдруг на высоте, возле приземистого курчавого ильма, Маша заметила одинокую темную фигуру. Она невольно отпрянула в сторону.
- Это я, Маша, - отозвался сидящий человек голосом Булкина.