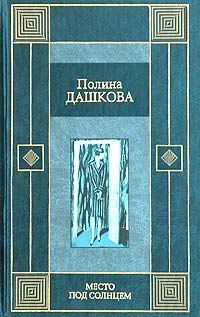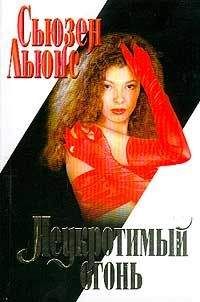Павел Заякин-Уральский - В плену у железа
Работал я на прокатной машине — железные полосы в валках прокатывали. Получался большой «угар» железа. За него наказывали рабочих розгами. По сто ударов и больше всыпали. Драли и меня за этот «угар». Но мы были не виноваты: железо горело оттого, что печи были плохие. Наказывали нас на эшафоте. Помост из досок так назывался. Положат на него человека, притянут голову, руки и ноги ремнями да порют, не на живот — на смерть. Был приказчик, по-нынешнему управитель, Киреев, в работе ничего не понимал, а взыскивать умел. Закурит сигару и скажет: «Пока не кончу курить — порите его!» И пороли! Тело, как лапша, излоскутится, и кровь ручьями течет, а все хлещут. Если приказчик заметит, что удары дают легкие, жалеют, то прикажет отдуть и самих палачей. Ну, они и стараются, не щадя никого. Иного так высекут, что недели две потом не может ни сидеть, ни лежать, пока раны зарубцуются. А перед волей, если кто скажет, что скоро волю дадут, того схватят и бьют чуть не до смерти. Вот как пороли!
Тяжело было жить. Приказчики жестокие, работа каторжная, заводское устройство плохое… Нынче у печей не так жарит, как прежде, и у прокатных машин легче работать. Прежде люди сгорали у печей, а у машин надсаживались. Нынче все новое устройство. Заслонки да блоки — и хорошо. Заработки нынче сносные. Мы получали за работу по шесть гривен на ассигнации в месяц. На ассигнации — гривна, а серебром — три копейки. Старики поговорку сложили: «По три денежки на день — куда хочешь, туда день». Выдавали, кроме денег, провиант. Но мука зачастую была такая, как песок, а хлеб испекут — кирпичи, а не хлеб. И вот как вспомнишь прежнее житье, истязания, увечья, так и перекрестишься.
Старик истово крестится, а на глазах его блестят слезы, но он, быстро смахнув их с ресниц, начинает с оживлением рассказывать о воле.
— Вскоре потом вышла воля. Вот была радость народу! Было так же весело, как в христов день. Многие из нас, пожалуй, не знали, как будем жить, но все были рады. Старики от радости плакали. Молебны служили. После манифеста к нам приезжал владелец Николай Николаевич. Собирал народ и говорил, что желает жить мирно, просил работать на заводе, предлагал новые платы, обещал устроить нас землей и лесом. Но за землю был назначен большой оброк, и его нужно было отработать на заводе.
Прошла молва, что владелец заманивает народ под новую зависимость к себе, а пользу народу не сделает. Через это все взволновались, да и прежние обиды еще не были забыты. Старики отказались от земли, не послушали увещания владельца, не поверили ему и осрамили его. Он разговаривал с ними, а они ему кричали: «Уйди от нас? мы не твои теперь. Уйди, черный ворон!» Он разгневался и сказал: «Я доведу вас до того, что вы на три дома будете иметь один топор». А народ ему: «Не прежнее время — стегать не положишь!» И уехал он, оставив нас ни с чем.
Завод с месяц стоял, а потом, как жить стало нечем, мы просили пустить его в действие. С той поры опять работаем на владельца и живем без своей земли и без своего леса. Во всем завод полный хозяин — и лес рубит и землей распоряжается. Вот нынче здесь на поле хлеб посеян, а на будущий год, может быть, это поле завод займет под рудничную свалку или под склад леса. Говорят, что скоро землю и лес нарезывать станут, а чем нас наделят? Кругом на десятки верст лучший лес вырублен и вся земля изрыта заводскими разведками. За двадцать верст от завода надел не примешь. Выгон у нас хороший, но на одном выгоне не проживешь. Ох, что-то будет?
Дед спадает с восторженного тона, которым начал рассказ о воле, и, уныло поникнув головой, говорит о современной жизни, о природе и людях, изменяющихся и вырождающихся, как все на свете.
— Не стало леса, обмелели речки, растительность плохая, не стало ни рыбы, ни зверья, ни птиц. Народ стал плохой, измельчал и ослабел телом. Старики были крепче, бодрее и дольше жили. Нынче много вражды и мало добрых дел. Прежде друг друга блюли и не выдавали. В праздничный день нынешняя молодежь пьянствует, шляется с гармониками, дерется, стекла в домах бьет, ворота мажет, всячески озорничает… И мальчишки-подростки туда же тянутся. С малых лет начинают табак курить, водку пить, сквернословить… А песни какие скверные поют! Срам слушать! Нет, прежде этого не было… Мы табаку и водки не знали, не дрались, а только с девушками хороводы водили. В праздничный день — все в красных рубахах и в красных платьях — выйдем на луг к речке и гуляем тут до ночи. Гармоник у нас не было, а веселье было какое! Весь народ соберется бывало, смотреть на нашу игру. Песню запоем, хором, все заслушаются. Ушло время. Не то нынче, совсем не то!
Безнадежно махнув костлявой рукой, дед умолкает, погружается в недолгое раздумье и вдруг начинает подниматься с земли, чтобы идти домой.
Медленно движемся по берегу пруда. Вокруг темнеет. В воздухе разливается прохлада. Над прудом стелется пеленой молочный туман. В траве звонко квакают лягушки. В темном небе вспыхивают золотые звезды. Грудь дышит легко. Но в воображении встают картины и образы былого и будят грустные чувства.
III
Дед, работавший с детства до старости на заводе и выслуживший на инвалидные годы пенсию в один рубль двенадцать копеек в год, сходит в могилу на вечный покой под зеленым холмом и черным крестом.
Не стало деда и многих других, подобно ему проводивших всю жизнь в плену у завода, в плену огня и железа, уставших от долгого труда, от нечеловеческих мук, уставших и уснувших на кладбище вечным сном, а широко раскинувшийся, с законченными стенами корпусов и высящимися над ними черными трубами неприглядный завод, как огромное чудовище, шумно дымит, пыхтит и гудит сотнями голосов, требуя новых сил и новых жертв… И новое поколение идет на смену отошедшим служить властелину-заводу.
Прошла пора светлых детских иллюзий, и настала суровая действительность.
Не без волнения первый раз спускаюсь с горы к шумящему чудовищу. Передо мной дымятся десятки труб и блещут сотни разноцветных огней. Одни вспыхивают, потухают и снова светятся; другие горят ровным, ослепительно-белым, чуть-чуть колеблющимся пламенем; третьи ежеминутно меняют цвета. В воздухе стоит немолчный гул, уносящийся кверху вместе с дымом и расплывающийся в небе.
На домне черные от угольной пыли углевозы и краснобурые от пыли обожженной руды засыпщики бросают в печь ее каменноугольную пищу. Из-под огромного железного колпака над колошей, кратером вулкана печи, пышет большое фиолетовое пламя. В тот момент, как поднимается воротом колпак и ссыпанные на него руда и уголь проваливаются в печь, над колошей взвивается огненный столб и уносится вверх по трубе и целым фонтаном искр рассыпается по окрестности.
«Как это красиво, — думаю я. — Точно огненные бабочки летят…»
— Газ водородистый, не яркий, — чугун будет серый, а нам нужен для отливок белый или половинчатый, — замечает, сокрушенно вздохнув, старик-мастер, представляющий странную фигуру в картузе, кожаной куртке, широких плисовых шароварах и больших сапогах.
— Вы это узнаете уже заранее?
Он улыбается, разглаживая бороду на желтом суровом лице, смотрит на пламя и затем медленно, растягивая слова, говорит:
— Тридцать пять лет хожу за домной-матушкой, так как же мне не знать, какой у нее норов?.. Надо все примечать, тогда все будешь знать, что для чего, к чему и отчего… Вот если дым не идет кверху, а стелется по земле, то будет дождь… Так и у нас на заводе есть свои приметы…
По винтовой лестнице, обогнув мрачные дымящиеся рудообжигательные печи, спускаемся в нижний корпус.
Здесь переплетаются мрачные трубы, глухо гудящие, и только там, где фурмы, сверкают огненные очи доменной печи.
Мастер предлагает через особую призму посмотреть внутрь печи, где плавится чугун — на светлом огненном фоне видны сгустки темного цвета. Они быстро тают, как лед на солнце, и превращаются в огненную жидкость.
— Ну, ребята, открывай горн! — командует мастер.
Рабочие, в блузах и в лаптях с деревянными колодками, готовясь к выпуску чугуна, надевают фартуки из кошмы, чтобы лучше защититься от нестерпимого жара.
Несколько человек берут большой железный лом и пробивают им отверстие внизу горна.
Чугун бежит ослепительно сверкающей огненной лавой по песчаной канавке, вливаясь в посыпанные песком чугунные формы — изложницы. Быстро, одна за другой, изложницы наполняются. Порой там, где песок сырой, лава взрывается. Сотни мелких разноцветных брызг жидкого металла огненным дождем взлетают вверх и, рассыпаясь, мгновенно потухают.
Но выпуск окончен, горн засыпается песком, остывающая лава краснеет и меркнет.
Прокатный цех полон бурлящей жизни. Рабочие в лаптях, кошомных фартуках и с металлическими сетками на лице. Все охвачены суматохой, кричат, бегают и прыгают около раскаленного железа. Каждый чем-нибудь вооружен: кто клещами, кто рычагом. Одни подставляют нагретые добела куски железа под удары гигантского молота, от которых дрожат стены и гудит в ушах, а другие направляют такие же куски в валы прокатной машины, где со страшной быстротой и могучим гулом вертится огромное колесо — маховик. Нагретое добела, почти расплавленное железо, попав под молот или в машину, слепит глаза огненным дождем отделяющихся от него мельчайших частиц. Куски под молотом плющатся, обращаясь в форму лепешек, а из кусков, пропущенных в валах машины, вытягиваются длинные полосы, которые тут же ползут, как змеи, под пресс, мгновенно кромсающий их на куски.