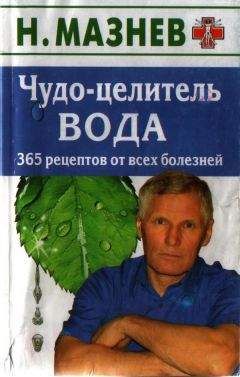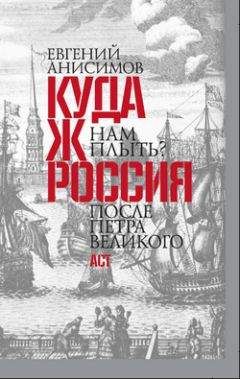Евгений Замятин - Икс
Все, кто видел дьякона хоть бы вот сейчас, на улице Розы Люксембург, — знают, что это мужчина здоровенный. Так что, может быть, я рискую неприятностью при случайной встрече с ним в другом рассказе или повести — но тем не менее я считаю своим долгом разоблачить его здесь до конца.
Раскаявшись и обрившись, дьякон Индикоплев напечатал буллу к прежней своей пастве в «Известиях» УИКа. Набранная жирным цицеро булла была расклеена на заборах — и из нее все узнали, что дьякон раскаялся после того, как прослушал лекцию заезжего москвича о марксизме. Правда, лекция и вообще произвела большое впечатление — настолько, что следующий клубный доклад, астрономический, был анонсирован так: «Планета Маркс и ее обитатели». Но мне доподлинно известно: то, что в дьяконе произвело переворот и заставило раскаяться, — был не марксизм, а марфизм.
Родоначальница этого внеклассового учения, до сих пор только чуть-чуть показанная между строк, однажды ранним утром спускалась к реке — искупаться. Разделась, повесила на лозинку платье, с камушка опустила в воду пальцы правой ноги — какова сегодня вода? — плеснула раз, другой. На сажень влево сидел под кустом (тогда еще не раскаявшийся) голый дьякон Индикоплев и подтягивал вентерь, поставленный в ночь на раков. Привычным рыболовным ухом дьякон услышал плеск: «Эх, должно быть, крупная играет!» — взглянул… и погиб.
Марфа повела плечами (вода холодновата) и стала венком закладывать косу кругом головы — волосы спелые, богатые, русые, и вся богатая, спелая. Ах, если бы дьякон умел рисовать, как Кустодиев! — ее, на темной зелени листьев, поднявшую к голове руку, в зубах — шпилька, зубы — сахарные, голубовато-бледные, на черном шнурочке — зеленый эмалевый крестик между грудей…
Тотчас же встать и уйти дьякон не мог — по случаю своей наготы; одеваться — белье было одна срамота. Поневоле пришлось вытерпеть все до конца — пока Марфа наплавалась, вышла из воды (одно это: как скатывались капельки с кончиков!), оделась — не спеша. Дьякон вытерпел, но с того именно дня стал убежденным марфистом.
В сущности, к Евангелию марфизм был гораздо ближе, чем к марксизму. Так, например, несомненно, что основной заповедью Марфа считала: «Возлюби ближнего своего». Для ближнего — она всегда готова была, по Евангелию, снять с себя последнюю рубашку. «Ах ты бедняжечка мой, ну что ж мне с тобой делать? Ну, поди, миленький, ко мне — ну поди!» — это она говорила эсеру Перепечко («бедненький, в тюрьме сидел!»), говорила Хаскину из ячейки («бедненький — шейка прямо как у цыпленка!»), говорила телеграфисту Алешке («бедненький, все сидит — пишет!»), говорила…
Тут-то в дьяконе и обнаружилось это проклятое наследие капитализма — собственнический инстинкт. И дьякон сказал:
— А я желаю, чтоб ты была моя — и больше никому! Если я тебя… ну вот как… ну не знаю как… — понимаешь?
— Ах ты бедненький мой! Да понимаю же, понима-аю! А только что же мне с ними делать, когда они Христом-богом просят? Ведь не каменная я, жалко!
Это было в тихий революционный вечер, на лавочке у Марфы в саду. Где-то нежно татакал пулемет, призывая самку. За стеною в сарае горько вздыхала корова — и в саду еще горше вздыхал дьякон. Так бы и шло, если бы судьба не пустила в ход красного цвета, каким окрашиваются все перевороты в истории.
Как-то раз вместо хлеба гражданам выдали по бидону разведенного на олифе сурика. Весь день дьякон громыхал босыми ногами по железу — красил в медный цвет крышу. А когда стемнело, дьяконица (соседи ей уж давно шептали про дьякона) задами пробралась к Марфе в сад. В руках у ней был узелок, а в узелке — нечто круглое: может быть — бомба, может быть — отрубленная голова, а может быть — горшок с чем-нибудь. Через десять минут дьяконица вылезла из сада, обтерла о лопух руки (не в крови ли они?) — и вернулась домой. Затем — как всегда: звезды, пулемет, в сарае вздыхала корова, на лавочке в саду — дьякон. Он вздохнул раз, другой — выругался:
— Фу-ты, ч-черт! И тут краской воняет — никуда от нее не уйдешь, нынче за день весь насквозь пропитался!
Но, к счастью, у Марфы на груди была приколота веточка сирени. Дорогие товарищи, знакома ли вам эта надстройка на нежнейшем базисе — согласно учению марфизма? Если знакома, вы поймете, что дьякон скоро забыл о краске и обо всем на свете.
Неудивительно, что утром дьякон еле продрал глаза к обедне. Скорей одеваться — схватил штаны… Владычица! — не штаны, а прямо следы преступления: все вымазано красным. И у серого подрясника — все сиденье красное и все полы красные… Лавочка-то вчера в саду была выкрашена — то-то оно и пахло!
Дьякон кинулся к шкафу — надеть другие брюки, которые не представляли собой наглядной диаграммы его греха, но шкаф был пуст: дьяконица все припрятала.
— Нет, Гришка ты этакой Распутин, так и иди! — кричала дьяконица. — Иди, иди, чтоб все добрые люди видели! Не-ет, не дам, иди!
Так и пошел — как некогда пророк Елисей — со стадом гогочущих мальчишек сзади.
Никому и никогда еще не удавалось изобразить по-настоящему самум, землетрясение, роды, катценяммер. Нельзя изобразить то, что происходило в дьяконе, когда он служил эту обедню. Важно одно: к концу обедни дьякон оценил завоевания революции, и, в частности, то, что революцией разрушена тюрьма буржуазного брака.
На другой день дьякон отнес к портному праздничную рясу. А через два дня в бордовой толстовке, бритый, стыдливо прикрывая рукой бесстыдно выскочивший нос, заявился к Марфе — сказать ей, что из-за нее он решил погубить душу, отречься от всего, с дьяконицей развестись и жениться на ней, на Марфе.
— Ах ты бедненький! Ну, поди, поди ко мне… Да что это у тебя глаза такие чудные?
— Что — глаза! Тут мозги наперекосы пойдут — от всего этого…
Мозги у дьякона шли наперекосы: как в бурсе, он опять сидел и зубрил тексты — теперь из Маркса — и каждый вечер ходил на занятия в кружок. Но под марксизмом дьякона скрывался чистейший марфизм: после моих беспристрастных свидетельских показаний это должно быть ясно для суда истории. А затем, граждане судьи истории, разве не на ваших глазах этот якобы раскаявшийся служитель культа только что перекрестился публично? Это видела вся Роза Люксембург и в том числе уважаемый тов. Стерлигов из УИКа — неужели этого мало?
Вся Роза Люксембург была сейчас театральным залом: стеклярусный дождевой занавес раздвинут, ложи-подворотни полны публики, сотни глаз прикованы к сцене. Сцена — две конструктивных по Мейерхольду площадки: два подъезда с навесами у входов в галантерейный магазин Перелыгина (входы, конечно, забиты досками: год — 1919-й). Действие развертывается одновременно на обеих площадках: справа — Стерлигов и телеграфист Алешка, слева — марфист-дьякон и Марфа.
Алешка бледен, как Пьеро, и только оттопыренные уши нагримированы красным. Алешка с трудом (публике это видно) произносит наконец какое-то слово — у Стерлигова цигарка падает наземь, он хватается за кобуру револьвера. Затем подымает обе руки к Алешкиной голове — как будто чтобы взять ее за ручки, как самовар, и снять с плеч. Голова остается на плечах, но, несомненно, Стерлигов говорит что-то вроде: «Ну, если врешь — голову с плеч долой!» И оба действующих лица сходят со сцены, вернее, сбегают: Стерлигов за рукав волокет Алешку куда-то за кулисы.
На левой площадке — явно любовный диалог. Дьякон начинает его скупо, без жестов — и только видно, как в кармане его толстовки мечется и прыгает что-то, как будто там зашита кошка: это — свирепо стиснутый дьяконов кулак. Можно поручиться, что он спрашивает Марфу: «Ты мне почему сегодня утром калитку не открыла? Кто у тебя был? Нет, говори — кто? Слышишь?» Марфа подымает брови, вытягивает губы — так же, как когда говорят ребенку «агу-агунюшки». Это на дьякона уже не действует — мозги у него явно пошли наперекосы, кошка сейчас выпрыгнет из кармана. Но публика в ложах его стесняет, — видно, как он говорит только (текст приблизительный): «Ну, ладно, — погоди!» — и уходит с твердым решением (кулак в кармане каменеет): вечером спрятаться в саду у Марфы и подстеречь соперника.
Представление кончено. Марфа остается на сцене одна, раскланивается с публикой. Публика все еще не расходится — дождь припустил сильнее, и промокнуть до костей решаются только те, кто волею судеб вплетен в основную сюжетную нить, — как, например, Стерлигов и Алешка-телеграфист.
Мокрые, они уже входили сейчас в учреждение, которое в тот год носило имя гораздо более чеканное и металлическое, чем теперь. Рябой солдат равнодушно насадил Алешкин пропуск на свой штык, где уже трепетал десяток других алешек, превращенных в бумажные лоскуты. Потом — бесконечный коридор, какие-то летучие, почти прозрачные лица, сделанные из человеческого желатина. И перед дверью кабинета за столиком — барышня, из породы секретарш (особый вид болонок).