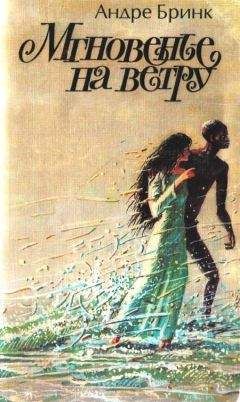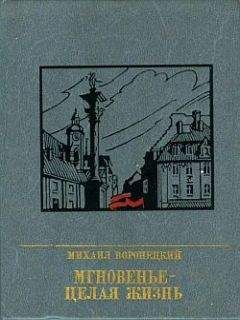Павел Пепперштейн - Яйцо
Наши первые литературные опыты были подражаниями Прусту. Вдохновленные описаниями прогулок из "В сторону Свана", мы пытались описать столь же подробно и трепетно наши собственные прогулки: эти описания впитали в себя географию наших угодий - промежутка между линиями двух железных дорог, двух желтых дорог, уходящих в страны Жевунов и Мигунов. Любовь заставляла нас писать - любовь к местам, к освещениям, и к себе, к двум фигуркам, бредущим по кусочку своей Родины в изменяющемся свете. Мы описали кладбище на холме, куда поднимались мокрые земляные ступеньки, и склоны, посыпанные кладбищенским мусором, словно кладбище испражнялось здесь, отрыгивая сплющенные венки, гниющие бумажные цветы и пустые обелиски. Мы проходили, взявшись за руки, меж могил, и надгробия провожали нас честными и добрыми взглядами своих овальных фотографий, этих тусклых и блестящих окошек, откуда смотрят умершие, навеки застыв перед фотографом, который накрыл себя своей темной пеленой, чтобы стыдливо совокупиться во тьме со своим аппаратом и стать Смертью. Далее был зеленый луг, и там мы фотографировали черно-белых коров.
У нас тоже, как и у Смерти, был фотоаппарат - отличная машинка, но мы всегда забывали проявить снимки; так они и остались валяться по комнатам темными катушечками отброшенных воспоминаний. Мы описали церковь и резиденцию патриарха. Описали станцию с урнами в форме пингвинов - их полые крашеные тела изнутри были изгажены плевками, окурками, скверной, но мы не протестовали, изумленные святотатством этого замысла: копить грязь в пингвинах. Это как плевать в ангелов, ведь пингвины это ангелы. Река Сетунь, ветлы, наклонившиеся над ее пенными водами, и красные железные мостики, напоминающие о китайских шелкографиях.
Были и другие направления. Прогулка в сторону Мичуринца, сумрачная, словно бы пропитанная поминальным запахом мичуринских яблок. Там, помним, нравилась нам черная гнилая деревянная водокачка - столь мрачная, что кладбище по сравнению с ней было как бал-маскарад. Прогулка в сторону деревеньки, вдоль пруда, мимо холма, где установлен был гонг - ржавая рельса, подвешенная между двух столбов. Сквозь лес и далее до самой белорусской ветки, до Баковки.
Этот гонг мы называли Гон-Конг.
Мы гуляли с дедушкой, гуляли одни, но постепенно сделались еще прекраснее и незаметно вступили в тот возраст, когда мужчинам стало прилично ухаживать за нами. Уединение детства уступило место общению. Тут появились хождения в гости, посещения писательских дач. Ровесников своих мы не очень любили, они порою бывали немногословны, а молчания мы не прощали - мы сами любили молчать и слушать, крепко взяв друг друга за руки. Поэтому мы предпочитали писателей. Незаметно мы оказались в вихре небольшой светской жизни дачного поселка. Мы посещали дом покойного Чуковского, сидели в креслах карельской березы, рассматривали оксфордскую мантию. Дочь Чуковского, принадлежавшая к диссидентской среде, относилась к нам, внучкам автора "Блокады" и "Солнца", сдержанно, с холодком. У нее собирались враги правительства. Быстров, один из наших "пажей", водил нас туда. Тогда мы не думали об этом, а теперь понимаем: те люди, жалкие и отважные, были героями - героями, над чьим героизмом жестоко подшутила история. Их подвиги расшатали великую страну, проложили путь для власти торгашей - эти моралисты обеспечили победу цинизма, эти серьезные, не умевшие улыбаться, порвали Священный Занавес, и в прорехах Завесы обнажилась перед миром колоссальная, чудовищная ухмылка - обезоруживающая, обаятельная, заразительная, и мир оледенел и в глубочайшем ужасе осознал, что времена, когда что-либо еще могло называться "нешуточным" - те времена со свистом канули навсегда.
Мы посещали старика Катаева, посещали коричневую дачу Пастернака, посещали его соседку Тамару, властную, хорошо сохранившуюся старуху, которая была вдовой Всеволода Иванова, а еще до того - вдовой Бабеля. В холодном кабинете ее сына, известного структуралиста, возлежали автомобильные шины. Старик Каверин тогда затеял зачем-то изучать французский, и, встречаясь с ним, мы старались беседовать на этом языке.
В доме писателей часто болтали мы со стариком Арсением Тарковским - его едкости заставляли нас звонко смеяться. Да, очень старые мужчины, такие как Катаев, Каверин, Тарковский, светские люди старой школы - они мастерски развлекали нас, демонстрируя свою ветшающую отточенность, свой блеск и свой яд - яд и блеск старцев, еще не вполне забывших свои пажеские и кадетские корпуса, свои выпускные гимназические балы, еще помнивших румяных сестричек милосердия Первой Мировой, затянутых портупеями сестричек Великой Отечественной. С людьми, которые знают, как поднять взвод в атаку, которые умеют танцевать мазурку, с людьми, для которых слово "Россия" - не пустой звук, с такими людьми девушкам не скучно, с такими людьми можно посмеяться. Более молодые ошалело вертелись поодаль, ежась, как шакалята. Нам нужна музыка, нам нужен уксус, нам нужен свинг! Налейте нам еще немного лимонного сока, трухлявые сфинксы! Но постепенно выделились из среды других кавалеров двое, которые были помоложе, особенно верные, преданные. Это были Коля Вольф и Олежка Княжко. Коля Вольф появился первым и быстро стал нашей тенью. Молодой писатель и литературовед, он был не очень нам интересен, прост, суховат и часто шутил. Мы ненавидим юмор, мы любим смех. Юмор - враг смеха. Олежка Княжко - тот был постарше, лет тридцати пяти, он был непрост, и мы сразу заприметили в этом пухлячке, в его овальных глазках, похожих на крошечных рыб под увеличительным стеклом, - сдержанное ликование, похожее чем-то на с трудом сдерживаемый хохот. Это признаки владения тайной, причастности к секретам. Посвященные иногда бывают такими - набухшими, брызжущими.
"Мы с вами почти однофамильцы. Вы - Князевы внучки, я - князек. Затеемте сословную дружбу", - сказал он, знакомясь. Люди обычно бродят взглядом по нашим лицам, нервно перескакивая с одного личика на другое. Княжко, беседуя, смотрел между нами, как будто обращаясь к ручейку пустоты, что протекал между нашими одинаковыми и прекрасными телами. И только потом, сбоку, он окидывал нас сообща одним широким, искрящимся, радостным взглядом - взглядом похотливым и влюбленным одновременно. Вскоре он посвятил нам стихи:
Ветер темный, ветер сладкий
Сахар, сахар на ветру
На лошадке картонажной
Еду сквозь лесную тьму.
На лошадке картонажной
В гладкой коже экипажной
Еду сквозь лесную тьму
Неподвластную уму.
Где-то ждет меня домишко.
Оживет в сенях умишко
Зацветет зеленый ум
В сочетаньях дат и сумм.
Сердце, мозг, рука, колено
Солнце, сон, верстак, полено
Годовые кольца тела
А внутри скелет из мела.
Это школьный, чистый мел
Он - основа слов и дел.
Слышен голос буратинский:
На экране Настя Кински.
Есть девчонки в русской тьме
Есть у нас другие насти
Словно карты белой масти.
Есть у нас иные нелли,
Словно тени в колыбели.
В их девическом томленье
Растворюсь я без сомненья.
Словно сахарный кусок.
Словно белый поясок.
Коля Вольф и Олежка Княжко пытались делать вид, что они - не соперники, ведь их было двое и нас было двое. Но они лгали себе, а такая ложь долго не длится, ибо что общего может быть между их "двое" и нашим "двое"? Нас следовало воспринимать как целое. И хотя у обоих не было на самом деле ни малейшей надежды, древний инстинкт все же заставлял их ревновать и мучиться. Мы играли этими сердцами, как мячиками. Впрочем, то была не жестокая игра обоим это было в конечном счете приятно. Сердца мужчин становятся здоровее, сильнее, когда девические пальцы роняют их, подхватывают, подбрасывают, ловят и снова роняют. Сердца тогда делаются упругими, их поверхность шлифуется, словно морским прибоем, который обрабатывает, лаская, прибрежные камешки. Они приобретают форму, совершенную, яйцеобразную, и любовь уже не гаснет в них, она растет внутри, чтобы в решающий момент разнести свою изысканную оболочку в мелкие осколки - и тогда атмосферический кокон Земли станет чуть-чуть толще, чуть-чуть прочнее.
Во всем нам нравился порядок. Мы любили расписания. У нас были синие и красные дни. В эти дни мы одевали одежды, отличавшиеся лишь цветом. Синие дни - то были темно-синие пелеринки, синие короткие юбки, синие чулки, синие туфельки, украшенные бронзовыми шахматными ферзями, синие перчатки с бронзовыми пуговками, почти микроскопическими, на которых только с помощью увеличительного стекла можно было разглядеть удивленные трубчатые лики морских коньков. Синие береты, которые мы иногда меняли на синие матросские бескозырки, с ярко-красными лентами. Ленты свешивались на спину или ими играл ветер, и на этих лентах английские буквы, четкие как цифры на вокзальных часах, складывались в имя Анна Нельсон. В красные дни все было то же самое, только вместо цвета темных слив, покрытых патиной, был красный цвет, напоминающий, по нашему мнению, цвет некоторых ягод, прихваченных первым морозом. И ленты были не красные, а синие. И вместо "Анна Нельсон" на лентах было написано "Лилли Нельсон".
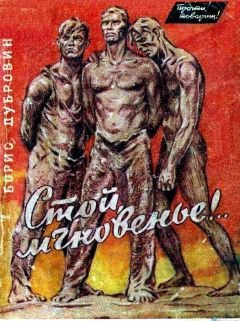
![Юрий Белов - Горькое вино Нисы [Повести]](/uploads/posts/books/270140/270140.jpg)