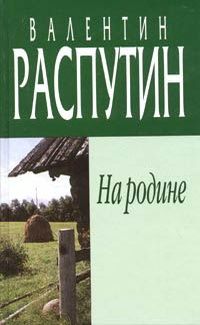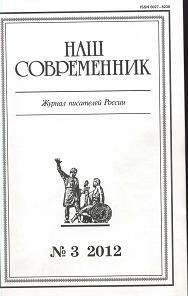Валентин Распутин - На родине
Я обхожу завалы, пробираясь меж камней, задравших острия. Справа дорога, блестящая утрамбованной гладью, я поворачиваю к ней. Дорога широкая, вбитая в землю навечно, накатанная такой тяжестью, в сравнении с которой асфальтовый каток - пушинки. На спуске к заливу она становится все шире и шире и вдруг как дорога теряется, подобно тому, как улица, потерявшись, переходит в площадь. От глины и камня она красная, ни росточка на ней, ни следочка. Остатки разбитых штабелей, наполовину выбранных, наполовину брошенных, с задранными по-пушечному стволами, с наворотом крест-накрест, белеют остатками великого пиршества, оставленного по тревоге. Стоит жуткая тишина.
Здесь и был нижний склад. Сюда, к заливу, свозился лес для сплотки, а к ангарскому берегу перед заливом - для погрузки в баржи. Рев моторов и грохот сваливаемой кубатуры стоял здесь зимой и летом, днем и ночью. Из года в год это огромное поле с двумя выходами на воду за лето опорожнялось, зимой снова наполнялось. Пылали огромные, во все небо, костры из валежника, щепы и обрези, гудели лесовозы, с бряком и шорканьем ходили челюсти погрузчиков, в сотый и тысячный раз сдирали с земли кожу ножи бульдозеров, а земное мясо перемалывалось гусеницами и колесами. Нижний склад подобен котловану при строительстве гидростанции: там и там нет, кажется, никакого порядка и смысла в размахе, с каким мечется дерево и бетон в чудовищные утробы. Но там и там из столпотворения и неразберихи происходят в конце концов порядок и насыщение. Вот и здесь наполненная доверху утроба однажды успокоилась и залегла, оставив недоедки...
Затягивает смотреть на все это... И сам не понимаешь, на что смотришь и что видишь, но в ужасе и преклонении затягивает. Будто и верно - до нутряного достигает взгляд, но нет в нашем мозгу фокуса увиденному, и не собирается оно в образ. Я сижу на отбитом в сторонку одиноком бревешке, наполовину вросшем в землю и белом, как кость, как кость же, глухом и выпаренном под солнцем и стужей. Не узнать, что это было - сосна или лиственница. Теперь - длинная, сохранившая форму жизни, кость. И нет от нее ни тепла, ни хлада. Только кладбищенский озноб.
На мысу, на стрелке большой воды и заливной, холм не холм, курган не курган... Если бы не четыре сосны на нем, четвертая с отбитой макушкой, можно было бы принять за насыпной. Я его тоже не помню. Здесь по сотворенному было второе сотворение мира. Я наизусть мог бы сказать, что тут было в допотопный период - как и где петляла речка при сбеге ее в Ангару, где она намывала песочек, где укрывалась тальником и осокой, с каким звонким и игривым бормотком врывалась в большую воду и метра на два еще торила свою дорожку, пока не сливалась окончательно. А уж после я помню плохо, будто здесь наросла вторичная жизнь, избиравшая своих помников. Теперь, значит, третичная.
Через залив протянуты боны, на них, как поплавки на сети, нанизаны чайки. Я сижу полчаса, больше - ни одна из них не вспорхнет и не вскрикнет. Приучились и птицы к терпению. Тут вода тоже скатилась, у кромки воды берег пористый. Чуть справа от меня мелконько подрагива-ют корявыми тычками две мертвые, мертвыми же корнями вросшие в воду березы. Я смотрю на них со слабым удивлением: не может быть, чтобы за сорок лет не вымыло? Скорей всего, корни придавило ко дну. Тут нет грунтового дна, весь залив из конца в конец вымощен. Великий русский язык: когда надо, скажет за двоих. "Вымощен" - и деревянным настилом покрыто, и утонувшей мощью выложено дно залива. А есть еще "мощи", нетленные мощи великанов, по которым когда-нибудь, через двести-триста лет, станут читать беспристрастную летопись местной истории. Чахлый, гнилой, низкорослый лес, тот, что на корню, по берегу уходит в глубину залива - и далеко: пока не кончится подпор и не сыщется речка в старом русле, не заструится, не зажурчит живой водичкой. Не может не знать она, живая, куда, в какое глухое лежище утянутся ее струи, но будет посылать их и посылать... Так и нам надо.
Я снова обвожу глазами весь огромный котлован, где кипела, кипела и выкипела вся работа. И думаю: лунный пейзаж. Заронятся ли здесь когда-нибудь семена, закроется ли эта рана? Я задаю вопрос не для ответа, ответ должен быть положительным. Но нет ответов, отказываются говорить. Надо выбираться из этого безответья, из этой глухоты, из беспродышливого подпора, на дне которого много чего лежит. Надо. Но как не соединить одно с другим - что было здесь в шуме и запале работы и что наползло отсюда на поселок. Вопросы-то задавать можно. После того, что было, разве удалось бы избежать того, что стало? Разве на часах, повисших где-то под этим небом и отсчитывающих десятилетия как секунды, не старый маятниковый ход: вправо-влево, да-нет, заслужил-получил? Эти часы сами по себе ничего не улучшают, они способны лишь, в предощущении ясной погоды, махи маятника сделать спокойней.
И опять звонко брякаю я соском умывальника, выплескав из него всю воду, и слышу удаляющийся стон: "Ой-е-е-е-ей! Че ж это деется-то?!" Опять разжигаю печку и жду чай. Глядя, с какой вялостью вытискивается из трубы дым, приоткрываю дверцу, чтобы поддувалом взбодрило огонь. И вспоминаю, как, возвращаясь вечером в нечистых, каких-то прелых сумерках от нижнего склада, взошел я на перекат увала, откуда открывался поселок, и ахнул: как зимой - вся деревня пускает дым! Кто топит летние кухни, кто баньку, приспособленную под варок, кто уличную сварную, как у меня, кто из десятка необмазанных кирпичей... Варить-кормить надо, вот и "деется". Пить-жить надо! Вон у моего нового соседа через дорогу печь с утра топится в избе. А день опять поднимается без продыху. За день я услышу со всех сторон это "деется" бессчетно.
Поверх забора видно: выходит в огород Нина, соседка моя по правую сторону с улицы, вяло ступает в домашних тапочках по межгрядным дорожкам, что-то высматривает и бормочет. Нагибается, щиплет лук, начинающий уже желтеть, и снова головой туда-сюда. Я не выдерживаю, взбираюсь на чурку под умывальником, чтобы и меня было видно, и кричу:
- Нина, что потеряла?
- А позапрошлое лето, - тотчас отзывается она и поворачивает ко мне красное тугое лицо, устанавливается на узкой дорожке прочней. - Какое было лето!.. Тебя в то лето, однако что, не было. Какое лето! - и тепло, и полив, и все-то как по заказу. Мы в то лето на этих-то, на толстомордых-то, чихать хотели! - брезгливо добавляет она... мне не надо объяснять, кого она задевает. - Хоть лопните вы там! Мы без вас проживем! В то лето че было не прожить!.. А нонче... Нонче так-то не погарцуешь!.. Ой, Валентин, окорот, кругом окорот! За горло берут. Че вот мы нонче будем делать?
Нина года на три моложе меня, но ноги больные, ходит утицей. Мы с ней в родстве, Роман, муж ее, тоже младше меня, приходится мне дядей, не то двоюродным, не то троюродным, мы с ним всякий раз в этом путаемся. Нина уже уходит, направляясь к калитке, я уже гляжу мимо нее, но она оборачивается, спрашивает:
- Надя молоко не приносила?
- Нет. Но у меня есть, вчерашнее не выпил.
- Вчерашнее завтра пей, раз кислое любишь. А седни я седнешнее принесу.
Надя - вторая моя соседка, слева. У нее три дочери, все три замужем за гуцулами, которые в старые времена наезжали в леспромхоз на заработки, все три учительницы. И вот две дочери съехали... в райцентр, там жизнь не должна совсем остановиться... третья доживет с матерью лето и тоже уедет. И говорливая Надя примолкла, прибрала свой певучий голос. У нее и окрик был певучий, не сибирский, когда загоняла она корову в стайку. Теперь, видать, и корова стала послушней. Не слыхать Надю. Утром подымусь иной раз - на крыльце белеет банка молока. Это от нее. Днем увидит, спросит:
- А хлеб-то? Хлеб-то, поди-ка, надо?
- Не надо. Мне вчера Муська доставила.
- У Муськи хлеб хороший. Муська мастерица. - И вспоминает без спохвата: - Лида в коммерцию свечки привезла. Велела сказать.
Свечки я возьму. Но едва ли пригодятся они: при свете ложишься, при свете встаешь. Но это я же по приезде спросил, а Лида приняла за заказ.
Не стало в поселке казенной пекарни, пекут хозяйки без русских печей как попало, никак не приспособятся к духовкам. Показались русские печи в "царствии небесном", когда поверилось, что все лучшеет и лучшеет, показались они лишними, много места занимали. Теперь майся. Не стало магазина, ни того, ни другого, ни на одном крылечке, ни на другом с разными вывес-ками. И вот Лида, продавщица из продовольственного, в духе времени завела "коммерцию" на Верхней улице в амбарушке на трех полках. Если дверка в "коммерцию" прикрыта, надо кликать Лиду со двора. За день раз-два и окликнут, а то и ни разу. Я спросил у нее в первый приход: "Когда выходной?" - и она посмотрела на меня недоверчиво, как после неудачной шутки: "Какие теперь выходные - все проходные!" Выходя вслед за мной из темной "коммерции" без окна, натакнула: "А масло на почте спросите, там, говорят, было". - "Почему на почте?" Ничему удивляться было нельзя, но иной раз удивление срывалось. "А там теперь тоже торговля. Там старикам в зачет пенсии мало-малишку привозят". Я пошел на почту. Почтовое дело захирело: телеграмму дать нельзя, письмо из города за четыреста километров может идти с осени до весны. "Нет, - говорит почтарка о масле, - только вчера последнюю бутылку взяли, подсолнечное было". На нет и спроса нет. Та же Надя, соседка моя, через день сообщает: эта бутылка теперь у Лиды, ее Лиде в обмен на чай принесли. Я к Лиде - уже из интереса, догоню ли. "Была бутылка, - говорит Лида, развеселившись, беззвучно смеясь, глядя на меня. Была. Полдня только и простояла. Развозжаевы две банки тушенки за нее принесли".