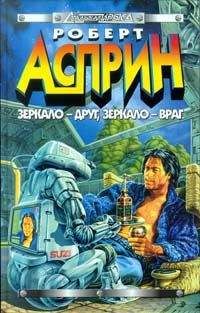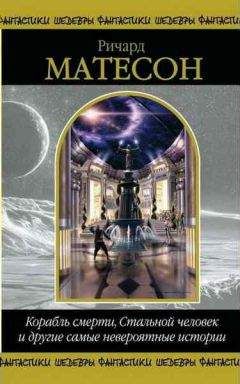Михаил Белиловский - Давидка
Когда же мы оба через некоторое время были уже совсем хороши, ты, свесил хмельную голову к столу, и взялся опять за то, что постоянно было у тебя на поверхности: " И чего они там медлят с парнем? Отпустили бы его одного, если сами не желают ехать. Это ведь будущее светило!" Покачал головой туда - сюда и с сердцем опустил сжатый кулак свой на край стола. Печально зазвенело тонкое стекло рюмок и стаканов.
Теплый солнечный день. Купленный тобой месяц назад сияющий на солнце "Бьюик" и ты рядом. Тоже сияешь. От счастья. Но говоришь другое:
" Нет, Мишенька, не одолеть мне этой машинерии. Куда мне. Вот уже месяц, как учусь, и никак. Не отважусь, так, чтобы сам". - При этом глаза твои, воспаленные постоянной бессонницей ночных смен, блестят безжизненным стеклянным светом.
Но сдавать на права едем. И, к моему удивлению, твоя дотошность побеждает страх и, слава богу, с первого захода экзамен на вождение успешно сдан! Возвращаемся домой. На твоем лице абсолютно никакого восторга. Уперся руками в руль и настолько фальшиво-серьезно, что не трудно догадаться, - за этим бурлит огромная радость, которая глубоко скрывается, чтобы не сглазить победу. Но что - то или кто - то все таки сглазил и ты, на выезде на улицу стал, но слишком далеко вперед выдвинул машину. И я говорю: " Сдай назад!". Переключил, нажал и так, что подъехавший сзади трак чуть не подпрыгнул от удара. Откуда - то взялся полицейский, жующий на ходу сендвич. Вышел из трака мексиканец.
" Это чтобы я когда нибудь с тобой куда нибудь поехал! Что я сам не знаю когда мне сдавать или не сдавать назад. Вот иди теперь и улаживай дело!"
Вышел я из машины и в обращении к полицейскому, вместо слова him употребил почему то You и получилось: Извините, я учу вас (!) водить машину. Скоп от удивления раскрыл рот, чуть не уронил свой бутерброд и переспросил с крайним удивлением: "Ты учишь меня, водить машину!? Ничего не понимаю."
Заметив замешательство, ты вмиг оказался между мной и полицейским. Далее, на чистейшем русском, но с гениальным еврейским искусством жестикуляции растолковал этому тупице в полицейской форме, в чем дело.
Полицай, а с ним и потерпевший мексиканец так громко смеялись, что совсем забыли о возможном штрафе. Мы тут же дали газу. А по дороге долго еще слышали продолжающийся громкий смех.
Мы ездили, как ты обещал, к морю. Ты, я и... Люсинька. Как можно было жить без всякого утешения? Без все смягчающей, согревающей женской ласки. Ох, как это нужно было тебе! С каждым днем окружающая жесткость делала тебя все белее упругим, закаленным. Но нервы, нервы наши еврейские... Все им нужно, все их волнует и беспокоит, все их касается. По дороге ты страшно злился каждый раз, когда она подсказывала тебе дорогу. Даже грубил ей, проявляя свой мужской гонор. А она, чуть толстенькая Люсинька, в ответ излучала счастливую улыбку. Ты же тихо мурлыкал про себя какую то неизвестную нам Киевскую песенку, круто наседая на руль при крутых поворотах.
А как можно было сыну божьему жить без умиротворяющей легенды о боге и божьем царстве?! Без познания того, что заставляет почти все человечество в глубокой вере склонять свои головы. И ты, по сути дела не религиозный человек, изредка, но все таки навещал синагогу, чтобы послушать знаменитого ребе или кантора, заказать и присутствовать на поминальной молитве об умерших родителях, жене своей. А на одной из полок книжной этажерки стояла, купленная тобой английская книга с названием Mankind's search for GOD33 "Человечество в поисках Бога.", которую ты мечтал когда нибудь, когда поднатореешь в языке, прочитать.
Бывало, при тебе скажут: Верить? О чем вы говорите? После того как он допустил такой страшный Холокост? И твое мужественное, с глубоко врезавшимися морщинами, лицо неподвижно застывает и басистый голос твой произносит короткую, как пистолетный выстрел, фразу: "Я считаю, верить, так верить. Или совсем не верить".
Твоя бойцовская философия жить без колебаний и сомнений остается с нами.
Как то долго мы не виделись. Побывал я в Израиле у внука. Потом у родственника в Чикаго. Приезжаю, - звонок. Звонит твоя сватья Лиза. И сквозь слезы:
- Миша, это я, Лиза. У нас большое несчастье... Давидка наш... Эти ночные смены... Сколько раз говорила я ему?! Ты ведь знаешь ... в последние годы, как он рвался встать на ноги ... чтобы жить и помогать ... Внезапно похудел до неузнаваемости. Совершенно неожиданно и тяжело заболел и боюсь...
Остальные слова потонули в горьких, безутешных слезах...
Пять месяцев стоического твоего единоборства с беспощадной, слепой, темной силой и, увы, мы стоим, Давидушка наш, родной, последний раз рядом с тобой... Никто из нас не плачет и не говорит о смерти. Научил нас этому, ТЫ... Все это страшно мучительное для тебя время ты давал нам понять, что единственное и самое могучее оружие против нее, - пренебрегать, отвергать и не признавать ее проклятущую. Только в этом случае жизнь навечно останется бурно распускающимся, вечно растущим и красочным многоцветьем !
Стоит у твоего изголовья мудрая, маленькая Лиза, больше всех нас понимающая глубину и ужас пережитой тобой трагедии... Люсинька, неисчерпаемая доброта которой осталась невостребованной... И Малая, которой предстоит понять твердую, как скала, и прямую, как птицы полет, философию деда.
А я, Давидка, в это время думал о том, что у меня обида на тебя осталась и она до сих пор не угасла. Что же ты, когда уже не решался водить машину, и попросил меня повести тебя в банк, чтобы оставить там свое последнее распоряжение, не стал делить со мной, с самым близким другом своим, страшную смертельную тоску? Я видел, как за маской обычных твоих разговоров стоял мрак неизвестности. Не пожелал, не захотел омрачать человека, у которого еще оставался завтрашний день. А напрасно. Лучше тебе было бы все - таки поделится со мной, и мы уронили бы на пару с тобой по мужской слезинке... Все же легче было бы тебе, чем оказаться потом одному дома со своим печальным грузом. И что же я тогда так и не отважился сам взять на себя часть этой фатальной тяжести, чтобы она не мучила меня до сих пор... Эх, да что теперь поделаешь!
И не беда, Давидка, что теперь твой будущий профессор по закону уже не сможет воспользоваться твоими бумагами и перебраться сюда. Не пропадет и там.
А вот то, что мы могли бы с тобой еще много, много раз посидеть за твоим гостеприимным столом, за хрустальным шкаликом и сахарными огурчиками... Конечно, могли бы... Да, вот...
Остался твой подарок..., помнишь, мое 70-тилетие. Прекрасный набор инструментов в пластмассовом чемоданчике. Машина то у меня старенькая. Чиню часто. И каждый раз, когда беру в руки чемоданчик ... чувствую твою щедрую, вечно беспокоящуюся, неуемную душу...